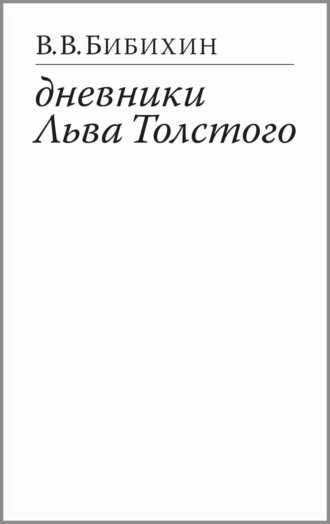
В. В. Бибихин
Дневники Льва Толстого
I-6
(10.10.2000)
Толстой стоит отдельно от литераторов, и от мыслителей тоже. Это выражается непосредственно в трудности сравнить его и включить в какой-то известный круг мысли. Из времени долгого перерыва дневников, фактически от его 37 до его 60 лет, потому что в промежутке лежат только одностраничные дневники его сорокапятилетнего и пятидесятилетнего, я выписываю, так сказать, природные, к которым Толстой имеет отношение слышащего и записывающего, не конструирующего.
Например, записная книжка № 2, 13.8.1865 о неправильности собственности на землю: во-первых, «всё это видел во сне»; во-вторых, по свидетельствам, сам себе удивился, увидев это у себя, прочитав через сорок с лишним лет; т. е. и не сам придумал, и тем более не включил в свои «философские позиции».
1865 г. Августа 13-го. [Ясная Поляна]. Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности.
Звучит актуально очень в годы, когда Петр Аркадьевич Столыпин уже председатель Совета министров и одним из первых своих законов недавно 9.11.1906 разрешил выходить из крестьянской общины, где собственности на землю подчеркнуто не было, потому что земля не просто считалась общинной, но нарочно переделивалась между дворами. В разгар строительства русского фермерства, укрепление Крестьянского банка, когда свежие собственники на землю только входят во вкус, все только о собственной земле и говорят. Толстой «необычайно поражен», записывает Маковицкий, читая в своих старых записях 16.4.1908 такое[18]:
“La propriété c’est le vol”[19] {это Пьер Жозеф Прудон, 1809–1865, в книге 1840 года “Qu’est ce que la propriété”[20]} останется больше истиной, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской. – Это истина абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные – приложения. Первая из этих относительных истин есть воззрение русского народа на собственность. Русской народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда, и собственность, более всякой другой стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную. Эта истина не есть мечта – она факт – выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков…
И сейчас это важный вопрос, остроту которого только подчеркивает блеф журналистов, что дескать запросто у нас вводится собственность на землю без проблем, так что нечего и думать. Толстой в своем сновидении угадал, как в «Хаджи-Мурате» он угадал в кавказскую безвыходность, в самую середину наших сегодняшних тупиков, и теперь только его сомнамбулический диагноз, похоже, точнее любых других. Судите сами. Отчетливость мысли Толстого подчеркивается тем, что он отделяет собственность на землю от всякой другой собственности, которую, при общем всё-таки непринятии собственности, он вроде бы готов признать, собственность как меру труда. Собственность на землю всего дальше от меры труда и хуже того, прямо вносит помеху в вознаграждение труда, потому что чем эффективнее трудились на земле, их <собственников> доход возрастает пропорционально труду, т. е. труд сам по себе продолжает стоить столько же, а владелец той же самой земли получает за свое ничегонеделание больше за счет хорошо поработавших.
…Эту истину понимает одинаково ученый русской и мужик – к[отор]ый говорит: пусть запишут нас в казаки и земля будет вольная. Эта идея имеет будущность.
Русская революция только на ней может быть основана… (13.8.1865)
Революция вроде бы, наоборот, раздала землю? Да, пока она была не русская, а списанная с чужих образцов. Спущенная вниз, она не могла не стать русской, и раскулачивание номинально шло против эксплуатации, номинально преследовались не собственники, потому что отдача земли в коллективное хозяйство номинально не означала отказ от собственности, только от частной собственности, общественная объявлялась более совершенной формой, – но фактически что произошло, еще стоит прояснить. Это не было возвращение к общине, хотя в некоторых коммунах была община, не было и к помещикам, хотя власти стали красными помещиками, а раньше, к царю (великому князю) как владельцу всей землей, который по своему усмотрению поручает-уступает землю во временное владение общине, или помещику, или монастырю, или монополисту, возникают сложнейшие формы собственности, но под единым государем владельцем земли. – Здесь начинается самое интересное. Колхоз ведь это, собственно, два акта, один на виду у всех и заметный, прошедший болезненно, отдача своего участка, надела, скота в общее хозяйство. Вокруг этого сколько слез пролилось, сколько обиды, и позвольте высказать мое мнение, что этот акт не был особенно важным и непривычным не был, похож внешне на возвращение хуторов и отрубов в общину: отделились от общины в 1910-м, вернули землю в общину в 1930-м. – Второй акт колхозного строительства прошел совсем без проблем, не был замечен почти что и даже не назван. Колхоз общиной не стал, мимо общины он сразу скользнул в древность, собственность ни на минуту не задержалась в руках коллектива, ни на минуту не задержалась и в руках новых красных дворян, она улетучилась в общенародную.
Почему, но в самом деле почему те самые крестьяне, которые всё-таки упирались отводить коров в общий коровник, не показали ни малейшего упорства в отстаивании своего нового качества, коллектива в конце концов, ведь традиции общины должны были быть? Или – неужели на самом деле традиции общины не было? Община была фикция, условность, скрытая форма чего-то другого? Да. Чего? Толстой говорит.
Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности. Она скажет: с меня, с человека, бери и дери что хочешь, а землю оставь всю нам. Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей. – (Всё это видел во сне 13 Авгу[ста 1865].)
О том, чтобы колхозы становились самоуправляющимися кооперативами, мало слышно. Что наоборот, коммуны легко соскальзывали на колхозы, да. Земля, отданная довольно легко частниками, уж вовсе не задерживалась у кооператива, она отправлялась наверх, к божественной власти или гениально мудрой власти – как бы вовсе отдавалась из-под какого бы то ни было крестьянского контроля, но невысказанная мудрость народа оказалась выше. Отданная на самый верх, земля вернулась, опять стала вся наша в большей мере, чем в общинном землепользовании, потому что тогда в коллективе начинали фактически распоряжаться отдельные люди, а теперь вот уж по-настоящему и по закону верховный никто, т. е. все. Точно по Толстому, освеженное самодержавие, диктатура, не мешало, а способствовало этому порядку вещей.
Удивление западных, почему в России такая маленькая зарплата и пенсия, не учитывает, что в России участок, вообще всякий участок земли, в том числе кладбище, принадлежит кому-то до сих пор только условно, и реально – только до тех пор пока огорожен забором и защищается телом. По сю сторону забора земля уже общая, моя. Выйдя за деревню, я могу гулять во все стороны по общей моей земле, что на Западе в принципе невозможно: сойдя с дороги, которая еще надо осведомиться не частная ли, я ступаю ногой на чью-то собственность и могу быть преследуем. Выехав в незнакомую область, я могу идти в лес по любую сторону дороги, если нет забора. Уже в Латвии без забора может висеть клочок бумаги, «земля в частной собственности», и у вас появляется отчетливое ощущение, что нет, пусть я буду иметь русскую зарплату или вовсе буду нищий, но земля была бы оставлена вся мне – или всем, или народу, или царю, что одно и то же. – То, что увидел Толстой во сне, тихо, само собой победило в 1929 году, относительно легко сдвинув частную собственность на землю и уж совсем легко – кооперативную. Что об этом качестве России никто сейчас по-настоящему не думает, показывает только, как это качество умеет постоять за себя, спрятаться и сохраниться. Легкомысленные головы, я сказал, блефуют, против собственной совести разговаривая так, словно семидесятилетнее обобществление собственности было уникальным в истории. Только не в истории России, где стиралась, вымарывалась всякая попытка на протяжении веков закрепить земельную собственность за человеком. Крепостное право было бы невозможно, если бы помещик был владельцем земли в западном смысле, а не получил землю от государя. Крепостной был в важном смысле свободнее помещика, потому что благодаря царю владел всей землей через голову помещика, а помещик по своему определению только частью. Так же теперешний бедный неимущий в отличие от нового владельца покупает этой своей бедностью чувство хозяина всей земли. Как только вся земля в России будет распределена между собственниками, средним классом, как на Западе, станут сразу почти все, но дело в том, что увиденное Толстым во сне 13.8.1865 продолжается до сих пор, русский говорит: «с меня, человека, бери и дери что хочешь, а землю оставь всю нам».
Нам понадобится понять отношение Толстого к России. Ни у славянофилов, ни у западников, только у Пушкина, у Гоголя, гораздо уже смутнее у Достоевского и сбивчиво у Розанова, такое же знание самостоятельности России и того, что она не вписывается в метрику времени. Она не может быть отсталой, если способна по своему устройству первой осуществить новейшую идею из центра Европы, социализма. Она не может отстать от исторического развития, если
Ничто так не препятствует свободе мысли, как вера в прогресс. (Зап. кн. № 2, 1868)
Это отступление о России не должно вводить в заблуждение: Толстой на самом деле тематизировал Россию не больше Пушкина, это была мировая мысль, охватывавшая и Россию.
Теперь подходы к обещанной физике Толстого.
Его метод я сказал. Я не могу знать атом, малейшее неделимое, иначе как через мой опыт моей неделимости, например в моем продолжении быть завтра тем же самым, что сегодня. Раньше Дильтея Толстой научился от позитивизма понимать в первую очередь, исходно жизнь в ее собранной середине, т. е. связной целости, и отсюда всё остальное. В отличие от Дильтея Толстой в принципе не проводит различения между естественными науками и тем, что он точно так же как Дильтей и Ницше называет психологией (у Дильтея психология, т. е. феноменология, основа наук о духе, Geisteswissenschaften). Наука только одна, вы помните, надежно мы знать не можем то что есть, а только то что должно быть, должно быть добро, в полном смысле; добро я могу знать только интимно через свое, через самого себя. Всё остальное безнадежно запутается в пояснениях.
Ничто так не препятствует свободе мысли, как вера в прогресс. —
Я это уже цитировал, сейчас вы увидите контекст, как всегда у Толстого головокружительно широкий. Только из контекста проясняется помеха мысли: она в неверии полноты здесь и теперь, в отсылании к дальнейшему, в ожидании от времени и пространства прояснений. Но ведь новоевропейская наука вся на таком протяжении в будущее стоит. В ней, соответственно, нет свободы мысли. Запись, тайнопись лаконичная, продолжается:
Микроск[опические] исследования – бесконечность. Астрономические – бесконечность. – Нет надежды конца и уяснения.
Психологические всё откроют.
Пчела не знает, что несет семена цветов. (Там же)
Микроскоп и телескоп – заметьте единодушие с Гёте – стало быть годятся только на то, чтобы отрезвить естественное знание, показать его безысходность (а до них можно было надеяться, что остроты глаза не хватает). – Психологические исследования, они откроют то, что человек и так делает, но не знает, что и как, как пчела, и не может подозревать, что она служит, заказана растениями для их существования.
Вопрос: разве пчела не делает свое дело и не зная о нём? Достаточно ее уверенности, что она всё делает правильно.
Но если бы пчела стала бояться, что она грабит цветы?
Она этого не боится. Она уверена – если хотите, в здоровом эгоизме, – что хорошо то, что ей хорошо.
Так?
Но пчела будет есть патоку, если ей положат, и перестанет нести семена цветов. Да? Тогда ей понадобится полное знание своего назначения?
Но если даже она будет знать свое назначение, она будет есть патоку, пока патока не кончится или ее не уберут. Человек знает, что надо делать, но делает не то.
Но улей вырождается от патоки и инстинкт возвращает пчел, всех или некоторых, к цветам. Так человек и общество, отпав от должного, со временем или к старости возвращаются к правильному не от поучений, а по инстинкту.
Всё это как будто бы ясно. Значит, вся проблема сводится не к знанию, которое само не работает, а к вещам такого рода, как встать не пустить в леток пчелу, которая не полетела дальше миски с патокой, убедительно показать танцем, куда на самом деле надо лететь, и – это наблюдал Аристотель – дисциплинирующим облетом улья изнутри, заражающим порядком, привести его к бодрой рабочей норме.
Воспитание может быть только физическим, приложением тела. Искусство действует заражением. Пчела гудением, овеванием крыльев, энергией танца действует на других пчел. Человек движением руки, толканием тела, привлекательностью лица, жестом, голосом, начертанием знаков действует на другого. Всё человечество таким образом в сплошном взаимодействии между собой. Одновременно через питание выросшее из земли переходит в людей (Зап. кн. 2, 7.12.1868).
Человек есть сила – действующая — больше ничего. (7.12.1868)
Т. е. втянутая в труд, широко понятый, включая делание, которое человек за собой не знает, как пчела несенье пыльцы.
Что такое общество? Разделение труда. – Путем дедукции и индукции.
1) д. Ежели один пашет зем[лю], а стало два, то другой не пашет – а содействует.
2) и. Не раб[отающий] мускулами работает нервами. Бог даст работу. (Там же)
Это уже достаточно круто. Как возникает общество. Была бы работа. В ней, уже поскольку в нее втянута сила, может быть втянута еще сила. А что если никакая сила в работу не втянута? Всё равно: тем, что она не втянута, она вот уже и втянута, через отношение невтянутости. Теперь, а если происходит отрыв силы от работы, работы нет или вовсе не было и сила не применена? Само отсутствие работы становится событием, захватывая «нервы» или может быть что-то еще, потому что работа глубока, она обтянута, как атмосферой, аурой. Аура в конечном счете тонет в Боге, потому что всякая работа человека божественная. Движение сил в божественном поле это «мистическое движение вперед» (там же 2.12.1868), к нему сводится вся история. Нет, не вся: есть еще работа, «художе[ственное] воспроизведение воспоминаний» (там же).
Силы, как вы видите, совсем не там и не так действуют, как человеку кажется. Пчеле вовсе не кажется, что она переносит пыльцу. Где кажется, что работа есть, ее нет, и наоборот. Это с одиночкой. Но не иначе с обществом. «Когда совершилось явление – оно есть равнодействующая – многих сил, из коих ни одна не имела направление равнодействующей» (Зап. кн. № 2, 8.1.1869). Может и иметь, но случайно и не будет знать об этом.
Ante factum о событиях можно знать только то одно, что о них нельзя знать ничего иначе как post factum[21]. Этим путем Толстой получает сильное основание для отмены всех расписаний.
Когда в первый раз было сказано: в a – месте повторяет[ся] в b времени – c число убийств или самоубийств, и никто не отвергнул эту опытом добытую аксиому, было положено начало новой философии, новой логике, психологии, истории, юриспруденции, новое начало всем ф[илософским] наукам, и старые начала б[ыли] уничтожены. (Зап кн № 2, 20.12.1868)
Заметьте: не так, что человек думает, что делает одно, а делает другое, как пчела, а сокрытие идет гораздо глубже, до того, что он думает и хочет не так, как ему кажется, что он думает и хочет.
Попробуем из замеченного расшифровать запись 24.1.1872 в Зап. кн. № 2.
Тяготенья – нет.
Тепла – нет.
Явления тяготения суть явления вращения концентрически разных – в N. отношении плотности к центру – сфер. Ядро падает на поверхность – т. е. из сферы воздуха стремится в сферу железа. —
Водород падает наверх, т. е. из сферы воздуха стремится в сферу водорода.
Для Толстого нетерпимо отделение тела от его действия. Ведь человек это сила. Покуда простирается сила, протягивается и человек. Поэтому там, где наука говорит отдельно о теле и его силе тяготения, Толстой видит протяжение самого тела. Тело тождественно силе. Тело-сила имеет строение. Это строение имеет тенденцию сохраняться. Падение камня на землю это перераспределение составных частей земли как тела-силы, т. е. значит выбрасывающего себя далеко за так называемую поверхность земли, – сохранение строения, когда тяжелое ближе к середине, легкое к краю. Земля большая как такая сила и не сливается с другими телами-силами. Всё дело в плотности, а не в тяготении. Что менее плотно, вытесняется плотным и тогда называется легким. В чём здесь новость. Исключается дальнодействие, всякое воздействие происходит прямым касанием тела к телу, т. е. опять же сила вокруг тела не отличается от тела, отождествляется с ним. Отменяется необходимость объяснять тяготение, радикально, через отмену самого тяготения. Поддержание стабильности системы тел объясняется не балансом центробежных сил инерции, стягиваемых силами притяжения, а тем, что пространства нет, а есть тесно касающиеся друг друга тела, расталкивающие друг друга.
(Сфера земли (и всякого тела небесного) не кончается ни его поверхностью, ни его атмосферой, ощущаемой, оно непосредственно граничит с другим телом и исключает возможность двух тел занять одно пространство.) (Там же)
В сверхплотной скорописи Толстого, одними намеками, вставка между запятыми определения «ощущаемой», применительно к атмосфере, подразумевает неощущаемую, невоспринимаемую, только действующую сферу тела, от тела неотделимую, неотличимую кроме как по этому признаку, неощущаемости, а по основному и решающему существу тела, силе, ту же самую. Вы скажете, как может быть действие и не ощущаться. Как пчела несет семена растений, делает это дело, и надежно не ощущает именно потому, что ощущает тяжесть пыльцы на лапках. Лейбница Толстой не упоминает, но мысль та же, может быть славянская (Лейбниц считается по роду славянин), или, вернее, доисторически древняя: кроме ощущаемых восприятий, мы воспринимаем много неощущаемого; небо возможно, даже скорее всего, гремит страшным шумом всегда, с самого начала, беспрерывно, этот грохот нами принимается, как приемник принимает радиоволны, но не ощущается, как мы не ощущаем радиоволны.
То, что мы ощущаем не всё, не означает, что ощущаемое важнее неощущаемого. Другое дело, что ощущаемое плотнее (можно считать это синонимами и тавтологией соответственно), а не ощущаемое разреженнее. Но разреженное может быть интенсивнее, т. е. делать больше существенной работы. Так у Аристотеля пятая стихия, эфир наверху на краю, вовсе не самая плотная, но всё движение под ней идет ступенями от нее.
Вы скажете, что необъясненность тяготения здесь просто перекладывается в мистическое понимание тела. Но вот разница. Нам опыт тяготения непосредственно не дан: свое тело мы ощущаем то легким, то тяжелым, восприятие ньютоновской постоянной массы нам просто недоступно. Это конечно не значит, что она не существует, но <она> на расстоянии, еще ожидающем уточнения, от нашего непосредственного опыта. А вот, наоборот, опыт силы, влияния, нашего присутствия, вообще присутствия, относящегося к нам (в обоих смыслах слова), – очень близок нам.
Заметьте, что от известной античной и вообще вечной схемы «всё во всём своим образом» космология Толстого отличается тем, что как камень падая не проникается воздухом и не впитывается в воздух (надо только теперь всегда помнить, что видимый осязаемый камень имеет, возможно, на самом деле другой вид, имеет неощущаемые, хотя и принимаемые нами сферы, в них входит, возможно, слово камень и символ камня, его место в истории человечества, что-то вроде несомого камнем, как пчелой, семени), так Земля может вместе со всеми своими неощущаемыми сферами, как камень, войти в сферу Солнца, падая в него и компенсируя падение инерцией вращения, как бы на ощупь пробираясь сквозь сферы Солнца, пока не попадет на свое место. Здесь у Толстого, как во многом, недоработка, да и вообще концы его теории не сведены, она состоит из вспышек догадок, так что будьте пока довольны этим образом Земли, пробирающейся со всем своим видимым и невидимым багажом через слои Солнца – помните, не поля притяжения Солнца, а самого Солнца-тела-силы!
Земля вращается с др[угими] планет[ами] вокруг солнца. Т. е. по мере своей плотности относительно сфер солнца находит свой путь в одной из сфер. Направление ее определено сферой вращения солнца, непосредственно соприкасающейся с ее сферой и сферами других планет. (Зап. кн. № 2, 24.1.1872)
Мы свободны понимать сферу Солнца, его тело не в виде шара, а в виде, может быть, осьминога, вообразите другое сложное органическое тело, в пазах которого находят себе место планеты, тоже не биллиардные шары, а тела.
Тяготения нет, но есть притяжение. Опять же, прямой опыт притяжения нам дан, во влечении.
Посмотрим, насколько далеко Толстому удастся продвинуться в физике, полагаясь в сущности только на феноменологию непосредственного опыта.
Електричество – освобожденная от центростремительной центробежная сила.
Оно бежит (по коридору), стремясь к кругу в хорош[ем] проводнике. (Там же)
Для проявления электричества нужна разница полюсов. В этом смысле толстовская дефиниция верна: электричество как проявившееся, ставшее током, освобождено от всеобщей двойственности. Его движение это стремление разведенных полюсов снова соединиться, замкнуть круг. Оно движется поэтому только когда не может это сделать сразу, ему устроен коридор.
Тела-силы, вернее силы-тела. «Телом мы называем единицу точек сил» (там же). Тело это наша мера ощущения силы. Та же сила, не ощущаемая нами, и не называется уже нами телом, а лучше бы для Толстого если бы называлась, но он держится сложившегося языка, не вводит новой терминологии. Отнесение всего видимого и невидимого в мире к одному понятию силы имеет не в последнюю очередь тот смысл, что всё нас касается, относится к нашей непонятной нам работе, которая главная в нас и для нас, хотя мы, как пчелы, воображаем себе свои цели.
Плотные точки сил в земле производят плавление металла.
Разреженные и более интенс[ивные] производят растения, организмы.
Еще более разреженные и интенс[ивные] производят явления, не ощущаемые нами. (Там же)
Художественная работа Толстого идет на тонкой грани ощущаемого. Она располагается в том же ряду действующих сил, силовых действий, что и расплавление магмы под землей.
И вот наконец очень крупный ход Толстого, на уровне современных проблем обоснования наук. Законы прилагаются к телам, массам, словом единичностям. Единичность устройства всего однако вовсе не очевидна. В нашем внутреннем опыте если единичность вещей, событий, настроений дана, то ничуть не в меньшей мере, чем туманность, размытость, неопределенность.
12 Фев. [1873]. Физика. Весь узел в единичности, какую мы принимаем {в смысле: постулируем, гипостазируем, почему-то берем на веру без опытного и теоретического подтверждения}. Притяжение пропорционально массе. Массе чего? Чего? Ответят – атомов. Отдельных? то они бесконечно малы и потому равны. Стало быть, нет пропорциональности молекул? Каких? Они тоже бескон[ечно] малы {т. е. из микростроения вещества, его начал, структуры не следует, стало быть единицы, единства идут не оттуда}.
Химическое сродство атомов чего? Кислорода, азота и т. д. Почему азот и кислород единичны. Почему эфир единица. —
В самом деле. Почему на микроуровне сплошность вещества, однородность по их малости частиц, грубо говоря допустим протонов, нейтронов и электронов, они в кислороде и азоте одни и те же, а на уровне нашей речи, скажем, мы успешно оперируем кислородом, азотом?
На чём основано подразделение единиц тел?
Вопрос Толстого.
Ответ Толстого:
На физическом строении человека.
Кислород и азот отчетливые единицы только на том основании, что наше тело может дышать и что оно может задыхаться. Где оно дышит, это кислород, где задыхается, азот. Упрощенный пример, но все основопонятия науки тянутся от нашего опыта, от нашего тела.
Поэтому только по недоразумению можно второй раз ставить предметом своего рассмотрения то, что уже с самого начала и было основанием всех моих мнений и воззрений.
1866. 11 Февраля. Москва. Все человеческие науки, которые имеют своим объектом человека, обречены бесцельности и болтовне. Философия. История. Юриспруденция. (Зап. кн. № 3)
1868 г. 25 Октября. 1) Показать, что люди, подчиняясь зоологическим законам, никогда не познают этих законов и, стремясь к своим личным целям, невольно исполняют законы общие. И показать, каким образом это происходит. В особенности заметно при переворотах. (Разврат, останавливающий размножение людей там, где избыток населения.) Спасительный клапан везде. Березы. (Там же, запись подряд)




