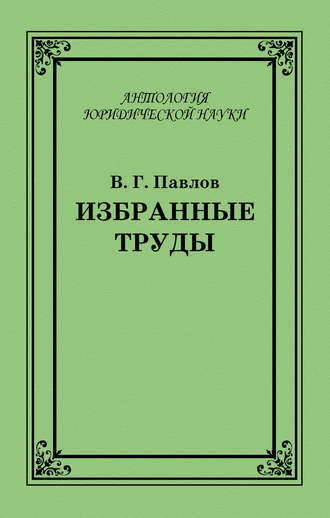
В. Г. Павлов
Избранные труды
Согласно ст. 10 Основ 1958 г. субъектом преступления считались физические лица, достигшие к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. Согласно ч. 2 ст. 10 Основ субъектом преступления признавалось несовершеннолетнее лицо в возрасте 14 лет за совершение убийства, кражи, злостного хулиганства, умышленное уничтожение или повреждение государственного или общественного имущества, либо личного имущества граждан, повлекшее тяжелые последствия, а также за умышленные преступные действия, которые могли привести к крушению поезда.[127] В Основах 1958 г. не признавались субъектом преступления, как и в предшествующем уголовном законодательстве, юридические лица. Новый уголовный закон, установив общий возраст уголовной ответственности с 16 лет, в свою очередь, опять повысил минимальный возраст с 12 до 14 лет. По достижении этого возраста могла наступать уголовная ответственность за совершение указанных в Основах преступлений.
Основы 1958 г. более четко на общесоюзном законодательном уровне закрепили термин «невменяемость» как основание, устраняющее признание лица субъектом преступления. В ст. 11 было записано, что не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения преступления находилось в состоянии невменяемости, когда оно не могло отдавать отчета себе в своих действиях или руководить ими. Такое состояние может иметь место вследствие хронической душевной болезни, временного расстройства душевной деятельности, а также слабоумия или иного болезненного состояния.[128] При этом понятие невменяемости рассматривалось как совокупность медицинского и юридического критериев, характеризующих психическое состояние лица во время совершения общественно опасного деяния. Медицинский критерий, таким образом, характеризуется различными видами психических заболеваний, подразделяющихся на четыре группы, которые предусматривают по степени тяжести и длительности лечения наиболее распространенные психические болезни. Юридический критерий невменяемости, в свою очередь, состоит из двух самостоятельных признаков – интеллектуального и волевого. Первый характеризуется неспособностью отдавать отчет в своих действиях, второй – неспособностью данным лицом руководить своими действиями.
Следовательно, Основы 1958 г., как и предшествующее советское уголовное законодательство, признавали субъектом преступления только вменяемое лицо, которое по своему психическому состоянию способно отдавать отчет своим действиям и руководить ими, т. е. вполне психически здоровый и нормально мыслящий человек, способный нести уголовную ответственность за совершенное преступное деяние. К лицу, признанному невменяемым, суд мог применить принудительные меры медицинского характера, которые устанавливались законодательством союзных республик.
Принятие Основ 1958 г. послужило толчком для активной работы законодателя по подготовке и принятию в каждой союзной республике своего уголовного кодекса, большинство из которых введены в действие в 1961 г. 27 октября 1960 г. на 3-й сессии Верховного Совета РСФСР 5-го созыва был принят УК РСФСР, который вступил в силу с 1 января 1961 г. Однако уже с середины 1961 г. в стране наметилась тенденция на усиление уголовной ответственности за ряд наиболее распространенных преступлений.
Общий возраст уголовной ответственности, с которого лицо признавалось субъектом преступления в УК РСФСР 1960 г. и уголовных кодексах других союзных республик, был установлен с 16 лет (ч. 1 ст. 10 УК). Однако в ч. 2 ст. 10 УК РСФСР законодатель несколько расширил перечень преступлений, уголовная ответственность за совершение которых наступала с 14-летнего возраста по сравнению с перечнем преступлений, который был представлен в ч. 2 ст. 10 Основ 1958 г. К таким преступлениям уголовный закон относил: убийство (ст. 102–106); умышленное нанесение телесных повреждений, связанных с причинением вреда здоровью (ст. 108–111, ч. 1 ст. 112); изнасилование (ст. 117); грабеж (ст. 90, 145); разбой (ст. 91, 146); кражу (ст. 89, 144); злостное хулиганство (ч. 2 ст. 206); умышленное уничтожение или повреждение государственного, общественного или личного имущества граждан, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 98 и ч. 2 ст. 149), и умышленное совершение действий, могущих вызвать крушение поезда (ст. 86).[129] В дальнейшем этот перечень законодателем постоянно расширялся и уточнялся. Формула невменяемости в УК 1960 г. (ст. 11) практически воспроизводила редакцию, формулы невменяемости Основ 1958 г. Уголовная ответственность лица, совершившего общественно опасное деяние в невменяемом состоянии, исключалась, так как оно не являлось субъектом преступления. Критерии невменяемости, медицинский и юридический, мало чем отличались от критериев невменяемости ст. 11 Основ. Аналогично решался данный вопрос и в уголовных кодексах других союзных республик.
Однако следует заметить, что в УК РСФСР 1960 г., как и в других уголовных кодексах и всем уголовном законодательстве рассматриваемого периода, отсутствует сама формула вменяемости как важный признак субъекта преступления, являющийся одним из оснований для привлечения лица к уголовной ответственности. Не нашли своего законодательного разрешения и критерии вменяемости, которые наряду с критериями невменяемости требовали не менее тщательного изучения и исследования. С 1961 по 1970 г. советское уголовное законодательство претерпевает существенные изменения. В УК РСФСР появляются специальные нормы, устанавливающие возраст уголовной ответственности с 18 лет. Так, 4 мая 1961 г. принимается Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни»,[130] которым предусматривалась административная ответственность в отношении совершеннолетних трудоспособных граждан за данное нарушение. Уголовная же ответственность за уклонение от общественно полезного труда была установлена спустя девять лет Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 февраля 1970 г. «О внесении дополнений и изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР», в соответствии с которым была сформулирована новая уголовно-правовая норма (ст. 209 УК РСФСР).[131] Субъектом преступления могло быть лишь трудоспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста. Подобные указы были приняты и в других союзных республиках.
Специальным субъектом преступления в соответствии со ст. 210 УК РСФСР также могло быть только лицо, достигшее возраста 18 лет, в отношении которого была предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, пьянство и другие антиобщественные действия, нарушающие нормальное развитие указанных лиц и способствующие их моральной деградации. Данная статья претерпела изменения на основании указов Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июля 1965 г.[132] и от 15 июля 1974 г.[133]
В целях активизации борьбы с наиболее распространенными преступлениями, представляющими повышенную общественную опасность, которые совершались лицами, не достигшими возраста 18 лет, законодатель, начиная с 1966 по 1994 г. включительно, усиливает уголовную ответственность несовершеннолетних. Были приняты новые уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за совершенные преступления с 14 лет. В связи с этим в ч. 2 ст. 10 УК РСФСР 1960 г. внесены соответствующие изменения и дополнения.
26 июля 1966 г. принимается Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении ответственности за хулиганство».[134] В развитие этого акта Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 августа 1966 г. вносятся изменения в ст. 206 УК РСФСР.[135] Субъектом хулиганства стали признаваться физические вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста, а за злостное (ч. 2 ст. 206) и особо злостное (ч. 3 ст. 206) хулиганство – лица в возрасте 14 лет.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 июня 1967 г. устанавливается уголовная ответственность за хищение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, а также взрывчатых веществ[136] (ст. 2181), в связи с чем вносится дополнение в ч. 2 ст. 10 УК РСФСР, предусматривающей ответственность с 14 лет.
Учитывая повышенную опасность преступлений, связанных с распространением наркотиков, особенно среди несовершеннолетних, Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 1974 г. установил уголовную ответственность для лиц в возрасте 14 лет за хищение наркотических веществ, а в УК РСФСР вводится специальная статья 2241, предусматривающая достаточно суровые санкции за данное преступление.[137]
В начале 90-х годов участились случаи похищения людей, в связи с чем Законом РФ от 29 апреля 1993 г. в УК РСФСР введена ст. 1251, в которой была предусмотрена ответственность за похищение человека.[138]
Законодателем внесены и соответствующие изменения в ч. 2 ст. 10 УК РСФСР, которая признает субъектом данного преступления лицо в возрасте 14 лет.
Значительные изменения, охватывающие большой перечень статей Особенной части и ч. 2 ст. 10 УК РСФСР, были внесены Федеральным законом РФ от 1 июля 1994 г. Этим законом устанавливалась уголовная ответственность лиц в возрасте 14 лет за следующие преступления: мошенничество (ст. 147); хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 1472); вымогательство (ст. 148); умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 149); неправомерное завладение транспортным средством, лошадью или иным ценным имуществом без цели хищения (ст. 1481; терроризм (ст. 2133); заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 2134).[139]
24 мая 1996 г. Государственная Дума приняла новый УК РФ, вступивший в силу 1 января 1997 г. Перечень преступлений, за которые наступает уголовная ответственность с 14 лет, был уточнен и даже несколько расширен следующими преступлениями: насильственные действия сексуального характера (ст. 132); захват заложника (ст. 206); вандализм (ст. 214); приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267). Вместе с тем законодателем был уточнен субъект преступления, связанный с возрастом и в других составах, когда ответственность наступает с 18 лет: половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134); вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150); вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151); торговля несовершеннолетними (ст. 152), по ряду преступлений против государственной власти, когда речь идет о должностном лице и иных общественно опасных деяний.
Анализ отечественного уголовного законодательства позволяет сделать вывод о том, что законодатель на протяжении 80 лет постоянно обращался к уголовно-правовым нормам, определяющим признаки субъекта преступления. При этом перечень преступных деяний постоянно менялся, а возрастные характеристики и вопросы, связанные с уголовной ответственностью и наказанием субъекта преступления, детализировались и уточнялись на различных этапах развития государства, исходя из задач, стоящих перед ним в области борьбы с преступностью.
Теоретические и методологические проблемы исследования субъекта преступления[140]
В связи с проведением правовых реформ в российском государстве среди ученых, как юристов, так и представителей других наук, наблюдается повышенный интерес к теоретическим и методологическим проблемам, и в частности в области уголовного права. Однако на фоне заметных успехов в области изучения теоретических и методологических вопросов, связанных с общим учением о составе преступления, его элементов, а также вопросов уголовной ответственности, наказания, соучастия и т. д. достижения по исследованию субъекта преступления не столь впечатляющи.
Анализ юридической, философской, медицинской и психологической литературы подтверждает, что теоретические и методологические проблемы учения о субъекте преступления в науке уголовного права существуют. Методология[141] позволяет точнее обозначить проблему учения о субъекте преступления с историко-философских, правовых и теоретических позиций, помогает определить наиболее перспективные направления данного учения, глубже познать логику и существо проблемы, выявить и закрепить важные приоритеты в ее исследовании.
Формирование ряда методологических основ учения о субъекте преступления относится к теориям и правовым воззрениям И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, П. А. Фейербаха, И. Фихте и других философов и исследователей права, оказавших большое влияние на развитие правовой мысли в России. Так, в философии И. Канта (1724–1804) особый интерес вызывает осмысление самого преступного поведения и лица, его совершающего. Представление о свободе воли, которая независима от определений чувственного мира, является основой уголовно-правовых построений Канта. Отсюда и вытекало понятие уголовной ответственности за действие, совершенное по решению человеческой воли. Уголовно-правовые воззрения Канта были идеалистическими, исходя из чего он как бы утвердил субъективно-идеалистическое понимание свободы воли с новых методологических позиций.[142] По Канту, всякое преднамеренное нарушение прав является основанием того, что оно признается преступлением. При этом субъект преступления как физическое лицо обладает свободной волей, которую он рассматривает как желание. Правовым же следствием провинности является наказание.[143]
В уголовно-правовой теории Гегеля (1770–1831) преступление есть проявление воли отдельного лица. Преступник же – не просто объект карательной власти государства, а субъект права, который наказывается в соответствии с совершенным преступлением.[144] Вопрос уголовной ответственности в отношении лица, совершившего преступление, рассматривается Гегелем по существу в сфере абстрактного права. Гегель утверждает, что воля и мышление представляют собой нечто единое, так как воля – не что иное, как мышление, превращающее себя в наличное бытие. При этом наличность разума и воли, по утверждению философа, является общим условием вменения. Вменяемость же, как свойство лица, совершившего преступное деяние, состоит в утверждении, что субъект как мыслящее существо знал и хотел.[145] Невменяемость субъекта, отмечал он, определяется тем, что само представление лица находится в противоречии с реальной действительностью, т. е. характер совершаемого действия не осознается им.[146]
Опираясь на философию Канта, строил уголовно-правовую теорию и выдающийся немецкий криминалист Фейербах (1775–1833), автор знаменитого учебника по уголовному праву.[147] Он разработал основные понятия и категории уголовного права, такие как состав преступления, институты уголовной ответственности, наказания, соучастия и др. Согласно теории А. Фейербаха, преступление совершается не из чувственных стремлений, но из произвола свободной воли. Само учение об уголовной ответственности он основывал на критической философии. По мнению А. А. Пионтковского, уголовно-правовая теория А. Фейербаха может рассматриваться как антиисторическая, в этом и выражаются методологические черты самой критической философии.[148] Фейербах, рассматривая преступление как действие свободной воли преступника, отстаивал в своей теории «психического принуждения» положение о необходимости применения к преступнику наряду с физическим принуждением, которого явно недостаточно, и психического принуждения.[149]
В свою очередь, Фихте (1762–1814) также основывал уголовно-правовые взгляды, исходя из философии субъективного идеализма. Он утверждал, что уголовная ответственность наступает не только при совершении умышленного, но и при совершении неосторожного преступления. По Фихте, преступление зависит от свободы воли человека, т. е. свободы выбора преступником целей своего поведения.[150] Таким образом, Фихте подразумевает избирательность поведения субъекта при совершении преступного деяния. Идеи Гегеля, Фейербаха, Фихте не противоречат субъективно-идеалистическому пониманию свободы воли Канта, т. е. его уголовно-правовой теории.
Многие идеи свободы воли, вопросы, связанные с совершением преступления, уголовной ответственностью и наказанием, понятиями вменяемости и невменяемости и др., которые отражены в философии Канта, Гегеля, Фихте, в дальнейшем разрабатывались, изучались и исследовались представителями различных уголовно-правовых школ. Так, например, виднейшими теоретиками классической школы уголовного права, возникшей в Европе во второй половине XVIII – начале XIX в., наряду с Фейербахом, были К. Биндинг (Германия), Н. Росси, О. Гарро (Франция). В России такое направление возникло в XIX – начале XX в. В лице русских криминалистов: А. Ф. Кистяковского, В. Д. Спасовича, Н. С. Таганцева, Н. Д. Сергеевского и др.
Классическая школа уголовного права базировалась на концепции индетерминизма, т. е. на метафизической, ничем не обусловленной свободой воле. Преступное деяние и ответственность за него представители классической школы основывали на учении о преступлении как результате действия свободной воли лица. При этом, руководствуясь доктриной произвольной свободы воли, представители данной школы в своих уголовно-правовых теориях не предусматривали наступление уголовной ответственности в отношении лиц, совершивших преступление в состоянии невменяемости. Уголовному наказанию, исходя из этих теорий, подлежали лица как за умышленные, так и за неосторожные преступные деяния.
Противоположных взглядов на свободу воли, преступное деяние, самого преступника, а также на вопросы уголовной ответственности и наказания придерживались представители антропологической школы уголовного права, возникшей в конце XIX в., основателями которой являлись Ч. Ломброзо, Р. Гарофало, Э. Ферри и др. Опираясь на философские концепции вульгарного материализма и позитивизма, являющиеся методологической основой данной школы, представители этого направления выработали учение о преступном человеке, практически полностью отрицая волевую деятельность человека. Согласно этому учению преступления совершаются в основном независимо от тех или иных общественных условий и, как правило, прирожденными преступниками. Исходя из концепции антропологической школы, прирожденный преступник фаталистически обречен. Он представляет собой тип человека, который отличается существенными физическими и нравственными особенностями и признаками.
Отвергая идеи Ч. Ломброзо, Э. Ферри и их последователей о прирожденном преступнике и в то же время отмечая заслугу антропологической школы, B. C. Познышев писал, что данная школа не только указала на необходимость изучения преступника, но и внесла этот объект в лабораторию науки, приковав к нему внимание ученых, заставив, таким образом, проверять свои построения, а также заниматься наблюдениями над преступниками.[151] Несомненно, что в России теоретические положения представителей антропологической школы уголовного права нашли мало сторонников в связи с тем, что уголовно-правовые теории в нашей стране в подавляющем большинстве строились на принципах классической школы уголовного права, основополагающим принципом которой, как отмечает Ю. А. Красиков, является примат государства над личностью.[152]
Социологическая школа уголовного права, возникшая в конце XIX – начале XX в., в лице таких известных ее теоретиков, как Ф. Лист (Германия), А. Принс и И. Я. Фойницкий (Россия) и др., выступила против признания того, что преступник, совершая преступное деяние, обладает «свободой воли, хотя он не свободен». Действия же его на момент совершения преступления, как правило, обусловлены социальными факторами преступности.[153] По существу, представители данной школы отрицали институты уголовного права, учение о составе преступления, не проводили различий между понятиями «вменяемость» и «невменяемость». Преступные деяния рассматривались как деяния, совершенные только разумным человеком, а мера наказания определялась не в зависимости от тяжести преступления, а в соответствии с предполагаемым опасным состоянием лица. При этом социологическая школа была довольно близка по ряду методологических положений антропологической школе, однако методологической ее основой являлась философия как прагматизма, так и позитивизма.
Методологический подход к учению о субъекте преступления, рассматривая субъект преступления через призму философских уголовно-правовых теорий, обнаруживает объединяющий эти теории признак, заключающийся в том, что любое деяние, например преступное, совершается физическим лицом, т. е. человеком. Однако отметим, что принцип уголовной ответственности в различное время в уголовном праве и законодательстве рассматривался не только в отношении человека, но и неодушевленных предметов, животных, насекомых или юридических лиц. Такой подход в основном был характерен для зарубежного уголовного права.[154]
Если рассматривать проблему субъекта преступления с позиции методологии теоретических концепций в русском уголовном праве, то, несмотря на различное отношение дореволюционных отечественных криминалистов к философским и уголовно-правовым теориям, в большинстве своем они были едины в мнении, что субъектом преступного деяния может быть только физическое лицо, и выступали против уголовной ответственности юридических лиц. Не случайно один из видных представителей классической школы уголовного права русский криминалист Н. С. Таганцев подчеркивал, что субъектом преступления может быть только виновное физическое лицо.[155]
Проблема вменяемости и невменяемости лица, совершившего преступное деяние, являющаяся одной из основных в теории уголовного права в отношении субъекта преступления, уголовной ответственности и наказания, решалась представителями различных школ весьма противоречиво. Что же касается возраста преступника как одного из главных признаков субъекта преступления, то исследования в этом направлении сводились криминалистами и криминологами указанных школ к различным классификациям преступных элементов или к рассмотрению их возрастных особенностей с позиции изучения личностных особенностей преступника.
На важность изучения свободы воли, вменяемости, необходимости и других вопросов, связанных с поведением человека в обществе, указывал Ф. Энгельс. Он писал, что невозможно рассуждать о морали и праве, когда не касаешься вопроса о так называемой свободе воли и о невменяемости человека, об отношении между необходимостью и свободой.[156] Разумеется, что без исследования и глубокого изучения этих понятий и взаимоотношений их вряд ли можно научно обосновать и решить проблему субъекта преступления, с которой тесно связаны различные институты уголовного права.
В историческом аспекте представляет интерес методологический и теоретический анализ проблемы субъекта преступления в уголовном праве и уголовном законодательстве в советский период развития нашего государства. После октябрьской революции, считает Ю. А. Красиков, доктрина социалистического права как бы вобрала в себя реакционные положения социологической школы, извратив во многом классическое направление.[157] На первых этапах существования советского государства изучению проблемы субъекта преступления со стороны ученых-юристов уделялось недостаточно внимания. Это связано с тем, что все российское уголовное законодательство требовало кардинального обновления и систематизации. В советский период наука уголовного права с новых методологических позиций стала решать задачи по переосмыслению различных уголовно-правовых и криминологических теорий, доставшихся в наследство от «старых» уголовно-правовых школ и учений, связанных с преступным деянием и преступником, а также вопросов уголовной ответственности и наказания.
Значительный вклад в советский период в вопросы теории и методологии по проблеме субъекта преступления внесли ученые-юристы Я. М. Брайнин, B. C. Орлов, А. А. Пионтковский, А. Н. Трайнин, несколько позже И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, Н. С. Лейкина, Р. И. Михеев и др. Однако в связи с отсутствием в уголовном праве стройного учения о субъекте преступления в теории отечественного уголовного права учеными-юристами допускались методологические ошибки, связанные с характеристикой его признаков. Традиционно субъект преступления рассматривался в виде одного из элементов состава преступления. Как отмечает О. Ф. Шишов,[158] в «Учебнике по уголовному праву» (1938) был допущен один методологический просчет, который выразился в том, что социальная сущность института вины рассматривалась в разделе «субъект преступления».
Следует заметить, что освещение вопросов методологии в учебной литературе по уголовному праву ограничивалось лишь указанием авторов на диалектический материализм как всеобщий метод научного познания (исследования) любой науки, и в частности науки уголовного права. Что же касается частнонаучных методов по исследованию проблемы субъекта преступления, то они в какой-то степени оставались в тени, хотя и требовали дальнейшего изучения не только со стороны ученых-юристов, но и представителей других наук.
Немаловажным обстоятельством для понимания методологических и теоретических вопросов проблемы субъекта преступления было исследование советскими криминалистами философского понятия свободы воли в ее материалистическом понимании, а также признаков лиц, совершивших преступные деяния, связанных с их возрастом, вменяемостью и невменяемостью, в уголовном праве.
Свобода воли, отмечал А. А. Пионтковский, исходя из диалектического материализма, служит основанием уголовной ответственности как при совершении умышленного, так и неосторожного преступления.[159] Иного мнения по данному вопросу придерживался И. С. Самощенко, который считал, что при обосновании уголовной ответственности лица, совершившего преступление, не следует исходить из философского понимания свободы, так как свобода в смысле выбора решения представляет собой другую свободу.[160] На наш взгляд, предпочтительнее мнение А. А. Пионтковского, так как, обладая свободой воли, преступник, как всякое вменяемое лицо, осознает свое противозаконное поведение в объективном мире и предвидит, что в результате его могут наступить преступные последствия. Следовательно, свобода выбора, избирательности поведения у вменяемого лица всегда имеется.
В науке уголовного права, как было отмечено выше, состав преступления является необходимым и достаточным основанием привлечения вменяемого лица, совершившего преступление, с учетом возраста, установленного законом, к уголовной ответственности. Структурную основу состава преступления составляет совокупность его элементов, состоящая из объекта, объективной стороны, субъекта, а также субъективной стороны.[161] Вместе с тем А. Н. Трайнин высказывал мнение о том, что субъект преступления не может рассматриваться в системе элементов состава преступления, так как человек не является элементом совершенного им преступного деяния. Где нет человека – виновника преступления, писал он, там не может быть и вопроса о наличии или отсутствии состава, более того, где нет вменяемого человека, достигшего законом установленного возраста, там отсутствуют и вопрос об уголовной ответственности, и вопрос о самом составе преступления.[162]
Позиция А. Н. Трайнина не получила достаточно широкого признания среди теоретиков уголовного права, т. е. во всех учебниках по уголовному праву, которые были изданы после 1946 г., субъект преступления рассматривался в самостоятельных главах как элемент состава преступления.[163] Спорным был в теории уголовного права и вопрос о том, что вменяемость и возраст субъекта преступного деяния нельзя рассматривать в качестве признаков, относящихся к составу преступления (А. Н. Трайнин, Б. С. Никифоров и др.). Вместе с тем включение вменяемости и возраста в число основных признаков субъекта преступления, по утверждению Н. С. Лейкиной, является не превращением преступника в элемент совершенного им преступного деяния, а возможностью попытаться дать более объективную и всестороннюю характеристику конкретного состава преступления.[164]
Однако если наряду с общими признаками, возрастом и вменяемостью, характеризующими субъекта преступления, в составах рассматривать повторность, систематичность, а также опасный рецидив и др., то, скорее, следует говорить о свойствах личности преступника, которые включались в понятие «состав преступления». В этом случае указанные признаки позволяют оценивать лицо, совершившее преступление, с общесоциальных позиций и рассматривать их как личные свойства преступника, определяя общественную опасность данной личности. Важной теоретической основой в исследовании субъекта преступления является возраст, установленный в законе как обстоятельство, предопределяющее наступление уголовной ответственности за совершение преступного деяния. Возраст как признак субъекта преступления в отечественном уголовном праве полно и глубоко учеными и практиками не изучен. Однако сложность данной проблемы определяется прежде всего тем, что она напрямую связана не только с природными, биологическими, но и с социально-психологическими свойствами человека, которые, разумеется, должны учитываться законодателем при установлении возрастных границ, при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление.
На определенных исторических этапах нашего государства возраст, с которого наступала уголовная ответственность лиц, устанавливался законодателем по-разному. Так, отечественному уголовному законодательству известно установление достаточно низких возрастных границ наступления уголовной ответственности, сохранявшихся сравнительно длительное время.
В послереволюционный период сфера уголовно-правового воздействия была подвержена значительным колебаниям, особенно в отношении несовершеннолетних преступников. И если субъектом преступления, согласно Руководящим началам 1919 г., признавалось лицо в возрасте 14 лет, то по УК РСФСР 1922 г. и УК РСФСР 1926 г. возраст, с которого наступала уголовная ответственность, законодателем был установлен иной – 16 лет. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г.[165] и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1940 г.[166] уголовная ответственность была установлена в отношении несовершеннолетних лиц с 12 лет за совершение ими краж, причинения насилия, телесных повреждений, увечий, убийств, а в предвоенный период времени – за действия, могущие вызвать крушение поездов. В дальнейшем самый низкий предел, с которого вменяемое лицо признавалось субъектом преступления и наступала уголовная ответственность, был определен в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., а также в УК РСФСР 1960 г. с 14 лет. Не изменялся он и в УК РФ 1996 г. (ч. 2 ст. 20).



