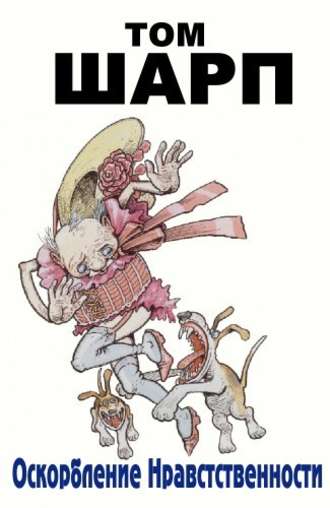
Том Шарп
Оскорбление нравственности
С этими словами старик скрылся в комнате, на двери которой было написано «Процедурная», не оставив комманданту иного выхода, кроме как ехать в город и там выяснять дорогу к дому Хиткоут-Килкуунов.
Тем временем в Пьембурге уже начались перемены, вызванные отсутствием комманданта Ван Хеердена. Лейтенант Веркрамп приехал на службу рано утром и расположился в кабинете комманданта.
– Этих сотрудников немедленно вызовите ко мне, – приказал он сержанту Брейтенбаху и вручил ему список, в котором значились фамилии десяти констеблей, чья мораль в вопросах половых сношений с представительницами других рас не выдерживала никакой критики. – И подготовьте камеры на верхнем этаже. Одну из стен побелить, в каждую камеру поставить по койке.
Когда вызванные явились, Веркрамп побеседовал с каждым из них поодиночке.
– Констебль Ван Хейниген, – строго обратился лейтенант к первому, – вы спали с черными женщинами? Спали. Не отрицайте.
Констебль Ван Хейниген выглядел ошарашенным.
– Но, сэр… – начал он, однако Веркрамп оборвал его.
– Отлично, – констатировал он. – Рад, что вы не отпираетесь. Вам будет предписан курс лечения, который избавит вас от этой болезни.
Констебль Ван Хейниген никогда не думал, что привычка насиловать черных баб – это болезнь. Он всегда считал, что это одна из тех мелких привилегий – нечто вроде чаевых, – какие обычно бывают на неприятной и малооплачиваемой работе.
– Вы сознаете, что такой курс вам будет только полезен? – не столько спросил, сколько почти приказал Веркрамп, так что возможность не согласиться с его утверждением заведомо исключалась. – Отлично. Тогда распишитесь здесь. – Он бросил на стол перед пораженным костеблем какую-то форму и всунул ему в руку авторучку. Констебль Ван Хейниген расписался.
– Благодарю. Следующий, – распорядился Веркрамп.
За час лейтенант провел столь же энергичные беседы и с остальными, в результате чего все десять констеблей подписали бумагу, в которой добровольно соглашались пройти курс лечения от ненормальной склонности к половым сношениям с представительницами других рас.
– Начало хорошее, – сказал Веркрамп сержанту Брейтенбаху, – думаю, мы сумеем убедить всех сотрудников подписать такое обязательство.
Сержант согласился, но высказал одно предложение.
– Полагаю, сэр, мы могли бы исключить сержантский состав. Как вы считаете? – спросил он. Веркрамп задумался.
– Пожалуй, – неохотно согласился он. – Кто-то же должен будет проводить лечение.
Сержант распорядился о том, чтобы все полицейские, которые будут заступать на дежурство, предварительно подписывали бы согласие на прохождение лечения, а Веркрамп поднялся тем временем наверх проверить подготовленные камеры.
В каждой из них была уже побелена одна из стен. Напротив этой стены стояла кровать, а возле нее на столике – проектор для показа слайдов. Не хватало пока только слайдов. Веркрамп вернулся к себе в кабинет и снова послал за сержантом Брейтенбахом.
– Возьмите пару машин, поезжайте куда-нибудь за город и привезите сотню цветных девок, – приказал лейтенант. – Постарайтесь отобрать тех, что покрасивей. Тащите их сюда, и пусть наш фотограф всех их снимет. Голыми.
Сержант Брейтенбах взял два полицейских фургона и отправился в Адамвилль, черный городок неподалеку от Пьембурга, исполнять приказание, показавшееся ему простым и ясным. На практике, однако, все получилось сложнее, чем он предполагал. Пока полицейские вытаскивали из домов и заталкивали в фургон первый десяток черных девушек, собралась большая рассвирепевшая толпа, а городок охватили волнения.
– Отпустите наших женщин! – требовала толпа.
– Выпустите нас! – верещали в фургоне сами женщины. Сержант Брейтенбах попытался объяснить смысл предпринимаемых действий.
– Мы их только сфотографируем, без одежды, растолковывал он. – Это делается для того, чтобы белые полицейские не спали больше с женщинами банту.
Подобное объяснение прозвучало, как и следовало ожидать, неубедительно. Судя по всему, толпа явно считала, что фотографирование черных женщин голыми окажет на белых полицейских прямо противоположное воздействие.
– Перестаньте насиловать наших женщин! – кричали африканцы.
– Именно это мы и пытаемся сделать, – отвечал им через громкоговоритель сержант, но его слова ни до кого не доходили. Слух о том, что полиция собирается перепортить всех молодых женщин, разнесся по городку с быстротой молнии. Когда вокруг полицейских машин начали падать камни, сержант Брейтенбах приказал своим людям взять автоматы наизготовку и начать отход.
– Вот так всегда, – заметил Веркрамп, когда сержант доложил ему об инциденте. – Стараешься им помочь, а они отвечают подобным образом. Бунтуют, черт бы их побрал. Я всегда говорил, что кафры тупые. Глупы как пробки.
– Попробовать еще раз? Нужны нам еще девки? – спросил сержант.
– Конечно. Десяти мало, – ответил Веркрамп. – Сфотографируйте этих и отвезите их назад. Когда там увидят, что с этими ничего не случилось, толпа успокоится.
– Слушаюсь, сэр, – с сомнением в голосе ответил сержант.
Он спустился в подвал и стал следить за работой полицейского фотографа, которому с трудом удавалось заставить женщин постоять какое-то время спокойно. Сержанту пришлось в конце концов вытащить револьвер и пригрозить, что, если женщины не будут делать то, что им говорят, он их всех перестреляет.
Вторая вылазка в Адамвилль оказалась еще более трудной и менее успешной, чем первая. На этот раз наряду с фургонами сержант прихватил также четыре бронетранспортера и несколько грузовиков с полицейскими, однако все равно нарвался на неприятности.
Сержант Брейтенбах приказал отпустить тех женщин, которых полицейские изловили во время первой вылазки и теперь привезли назад, и обратился к возбужденной толпе.
– Видите, с ними ничего не случилось! – прокричал он. Из фургонов высыпали женщины, они были голые, на их телах видны были ссадины.
– Он грозился перестрелять нас! – закричала одна из них.
Во время бунта, который последовал за этим заявлением и попыткой полиции захватить для тех же целей еще девяносто женщин, полицейские убили четырех африканцев и ранили больше десятка. Когда сержант Брейтенбах покидал поле битвы, в фургонах у него сидели еще двадцать пять женщин, а под левым глазом, в том месте, куда ему угодил камень, наливался огромный синяк.
– Пошли они к черту все! – выругался сержант, когда колонна двинулась в обратный путь. Подчиненные поняли его слова буквально, и после того как двадцать пять женщин по прибытии в полицейский участок были сфотографированы, ими воспользовались в свое удовольствие, а потом с миром отпустили по домам. Вечером того же дня исполнявший обязанности комманданта Веркрамп сообщил прессе, что в результате межплеменных столкновений в окрестностях города убиты четыре африканца.
Как только цветные слайды были изготовлены, Веркрамп и сержант Брейтенбах поднялись на верхний этаж полицейского управления, где десять констеблей с некоторым трепетом ожидали начала лечения. Появление шприцев и устройств для электрошока никак не способствовало поднятию их духа.
Пациентов выстроили в коридоре, и Веркрамп обратился к ним с напутствием.
Сегодня, сказал он, вам предстоит принять участие в эксперименте, который может изменить ход истории. Вы все знаете, что нам, белым, живущим на Юге Африки, угрожают миллионы черных. И если мы хотим выжить и сохранить чистоту нашей расы в том виде, в каком ее создал Бог, мы должны научиться сражаться не только при помощи оружия. Мы должны научиться вести и выигрывать также и моральные битвы. Мы должны очистить наши умы и сердца от грязных мыслей и побуждений. Именно это сделает начинаемый нами курс лечения. Каждый из нас испытывает естественное отвращение к кафрам. Такое отвращение – часть нашей природы. Лечение, которому вы согласились добровольно подвергнуться, укрепит в вас это чувство. Вот почему оно называется курсом отвращения. К концу этого курса от одного только вида черной женщины вас станет тошнить, и у вас выработаются рефлексы, которые позволят вам избегать любых контактов с этими женщинами. Вам не захочется спать с ними. Вам не захочется прикасаться к ним. Вам не захочется держать их в своем доме даже как слуг. Вам не захочется, чтобы они стирали вашу одежду. Вам не захочется, чтобы они ходили по улицам. Вам не захочется, чтобы они вообще были где бы то ни было в Южной Африке…
По мере того как лейтенант Веркрамп перечислял, чего впредь не захочется десяти констеблям, голос его становился все выше и выше. Сержант Брейтенбах начал нервно покашливать. У него выдался трудный денек, а кроме того, болезненно напоминал о себе порез на лбу, и ему вовсе не хотелось в довершение всего иметь еще дело с впавшим в истерику исполняющим обязанности комманданта.
– Будем начинать, сэр? – спросил он, перебивая Веркрампа. Лейтенант потерял мысль и остановился.
– Да, – ответил он. – Начнем эксперимент. Добровольные пациенты разошлись по камерам, где их заставили раздеться и надели на них смирительные рубашки, заранее приготовленные и уложенные на койках наподобие пижам. С облачением в смирительные рубашки возникли некоторые трудности, и в паре случаев потребовалась помощь нескольких сержантов, чтобы натянуть их на самых крупных и сильных полицейских. В конце концов, однако, каждый из десяти констеблей был переодет и связан, и Веркрамп наполнил апоморфином первый шприц.
Сержант Брейтенбах с растущей тревогой наблюдал за его приготовлениями.
– Хирург предупреждал не давать слишком большую дозу, – прошептал сержант Веркрампу. – Он говорил, что иначе можно и убить. Только по три кубика.
– У вас что, сержант, поджилки задрожали? – спросил Веркрамп. Лежавший на койке констебль неотрывно смотрел на иглу, и глаза его наполнялись ужасом.
– Я передумал! – отчаянно завопил он.
– Ничего ты не передумал, ответил Веркрамп. – Мы это делаем для твоей же пользы.
– Может быть, испробуем сперва на кафрах? – спросил сержант Брейтенбах. – А то не здорово ведь будет, если кто-нибудь из наших людей помрет.
Веркрамп на минуту-другую задумался.
– Ты прав, – согласился он в конце концов. Они отправились в камеры, расположенные на первом эта же, и ввели нескольким африканцам разные дозы апоморфина. Результаты полностью подтвердили худшие опасения сержанта Брейтенбаха. Когда третий негр подряд впал в состояние комы, Веркрамп выразил удивление, смешанное с восхищением.
– Мощная штука, – сказал он.
– Может, ограничимся только электрошоком? – спросил сержант.
– Пожалуй, – с грустью произнес Веркрамп. Ему очень хотелось потыкать в добровольных пациентов иголками. Приказав сержанту послать за полицейским хирургом, чтобы тот оформил свидетельства о смерти подопытных африканцев, лейтенант вернулся на верхний этаж и заверил пятерых добровольцев, которым должны были вводить апоморфин, что те могут не волноваться.
– Уколов не будет, – сказал он им, – вместо них применим электрошок. – И включил диапроектор. На противоположной стене камеры появилось изображение обнаженной чернокожей женщины. На эту часть эксперимента каждый из добровольцев ответил эрекцией. Веркрамп покачал головой.
– Позор! – пробормотал он, прикрепляя липкой лентой контакты электрошокового устройства к бодро настроенному члену одного из пациентов. – А теперь, – сказал он сержанту, сидевшему рядом с койкой, – каждый раз, когда будешь менять слайд, давай ему удар. Вот так, – и Веркрамп энергично завертел рукоятку генератора. Лежавший на кровати констебль задергался, как в конвульсии, и завопил. Веркрамп посмотрел на его пенис и остался доволен. – Видишь, – сказал он сержанту, – действует. – И сменил изображение.
Переходя из камеры в камеру, лейтенант Веркрамп объяснял, как надо проводить лечение, и следил за ходом эксперимента. Вслед за показом диапозитива обычно следовала эрекция, за ней – электрический удар, потом изображение менялось, повторялись эрекция и удар током – и так снова, снова и снова. По мере продолжения курса энтузиазм лейтенанта заметно возрастал.
В это время из морга возвратился сержант Брейтенбах. Он был настроен не столь оптимистически, как его начальник.
– На улице слышно, как они вопят, – прокричал он на ухо Веркрампу. Из-за криков подвергаемых лечению в коридоре верхнего этажа невозможно было ничего расслышать.
– Ну и что? – возразил Веркрамп. – Мы делаем историю.
– Мы делаем слишком много шума, – настаивал сержант.
Однако Веркрампу вопли добровольцев казались сладчайшей музыкой. Он видел себя дирижером, руководящим исполнением какой-то великой симфонии. Изображения и эрекция, удары током и вопли ассоциировались в его сознании с тем, как сменяются в симфонии времена года. В его власти всецело было вызвать весну или лето, зиму или осень или даже вообще отменить их чередование.
Через некоторое время он потребовал принести себе раскладушку и прямо в коридоре улегся на ней немного поспать.
– Я изгоняю дьявола, – повторял он про себя, мечтая о наступлении того времени, когда мир будет полностью очищен от сексуальных желаний. С этими мыслями он и заснул. Когда лейтенант проснулся, его поразила царившая вокруг тишина. Он поднялся и об наружил, что все добровольцы крепко спят, а сержанты собрались в туалете и курят.
– Почему вы прекратили лечение, черт возьми? – закричал на них Веркрамп. – Оно должно быть непрерывным, только в этом случае оно подействует. Это называется закреплением реакции.
– Чтобы продолжать, нужны свежие силы, – возразил один из сержантов. Это было похоже на признаки бунта.
– В чем дело? – сердито спросил Веркрамп. Сержант выглядел явно смущенным.
– Деликатный вопрос, – ответил в конце концов сержант Де Кок.
– А именно?
– Ну, мы всю ночь смотрели слайды обнаженных леди…
– Цветных девок, а не леди, – рявкнул Веркрамп.
– И… – сержант стушевался.
– И что?
– У нас начались судороги в яйцах, – ответил на конец сержант, не подыскивая других слов.
Лейтенант Веркрамп был поражен.
– Судороги в яйцах?! – закричал он. – Судороги в яйцах от цветных девок?! И вы в этом спокойно признаетесь?! – от возмущения Веркрамп потерял дар речи.
– Это совершенно естественно, – сказал один из сержантов.
– Что естественно?! – снова закричал Веркрамп. – Это абсолютно противоестественно! До чего докатилась страна, если даже люди вашего положения и вашей ответственности не в состоянии контролировать свои половые инстинкты! Так вот, слушайте, что я скажу. Как коммандант этого полицейского участка, я приказываю вам продолжать курс лечения! Любой из вас, кто откажется выполнять свой долг, будет первым включен в список следующей группы добровольцев.
Сержанты одернули гимнастерки и заспешили назад в камеры. Раздавшиеся через несколько минут вопли подтвердили, что их верность долгу восстановлена полностью. Утром лечение продолжила новая смена сержантов. На протяжении дня лейтенант Веркрамп неоднократно поднимался наверх, чтобы проверить, как идут дела.
Во время одного из таких посещений он уже собирался было покинуть камеру, как вдруг ему показалось, что проецируемая на стену картинка какая-то странная. Он пригляделся и увидел, что на слайде пейзаж, снятый в национальном парке Крюгера.
– Нравится? – спросил сержант, видя, что Веркрамп молча уставился на изображение. – Следующий еще лучше.
Сержант нажал на кнопку, слайд сменился, и во всю стену возник жираф, снятый с близкого расстояния. Лежавший на койке доброволец задергался от удара током. Лейтенант Веркрамп не верил собственным глазам.
– Откуда у вас эти слайды? – спросил он. Вид у сержанта был крайне довольный.
– Сделал в прошлом году, во время отпуска. Мы тогда ездили в заповедник. – Он снова нажал кнопку, и на экране появился табун зебр. Пациент на койке опять конвульсивно задергался.
– Вы обязаны показывать ему голых черных баб, а не зверей из заповедника, – зарычал Веркрамп.
Но сержант не смутился.
– Это я просто для разнообразия, – объяснил он. – А кроме того, я их еще сам ни разу не смотрел. У нас дома нет диапроектора.
Лежавший на койке доброволец тем временем орал, что он больше не выдержит.
– Не показывайте больше бегемотов, – молил он. – Хватит бегемотов. Клянусь Богом, я в жизни не притронусь ни к одному бегемоту!
– Видишь, что ты наделал? – начал отчитывать сержанта Веркрамп. – Ты понимаешь, что натворил? Теперь он будет всю жизнь ненавидеть животных. Он даже не сможет повести своих детей в зоопарк, не рискуя получить нервный срыв.
– Честное слово, я этого не хотел, – оправды вался сержант. – Прошу прощения. Он же теперь и рыбу ловить не сможет, бедняга.
Веркрамп отобрал слайды с изображением заповедника, а заодно и те, на которых был снят морской аквариум в Дурбане, и приказал сержанту показывать диапозитивы только с голыми черными женщинами. После этого случая он сам проверил все слайды во всех других камерах и обнаружил еще одно отклонение от установленного им порядка. Сержант Бишоф наряду с картинками цветных женщин показывал слайд, на котором была изображена одетая в купальник некрасивая белая женщина.
– А это что за уродина? – спросил Веркрамп, когда обнаружил этот слайд.
– Нехорошо так говорить, – обиделся сержант Бишоф.
– Это еще почему? – рявкнул Веркрамп.
– Это моя жена, – ответил сержант. Веркрамп понял, что допустил ошибку.
– Послушайте, – сказал лейтенант, – нельзя же показывать ее вместе с девками-кафирками.
– Нельзя, конечно, – согласился сержант. – Но я думал, что это может помочь.
– Чему помочь?
– Семейной жизни, – объяснил сержант. – Пони маете, она… э-э-э… немного склонна к флиртам, и я подумал, что хорошо бы сделать так, чтобы на нее ни один мужик и взглянуть не захотел.
Веркрамп изучающе посмотрел на изображение.
– Не думаю, что вам стоит так уж сильно беспокоиться, – сказал он и распорядился не показывать больше слайд с миссис Бишоф в общей подборке.
Добившись наконец, чтобы курс лечения во всем следовал разработанному им плану, лейтенант Веркрамп спустился в кабинет комманданта и стал мучительно думать, что бы еще предпринять такое, чтобы его пребывание при исполнении обязанностей начальника полиции оставило о себе неизгладимый след. Он понимал, что следующий этап в его деятельности по-настоящему начнется вечером, когда начнут действовать его секретные агенты.
Глава седьмая
Приехав после обеда в Веезен и обнаружив, что по пятницам все закрывается очень рано, коммандант начал уже было думать, что ему так никогда и не удастся отыскать дом Хиткоут-Килкуунов. Первое впечатление – что время в Веезене как будто остановилось – с лихвой подтвердилось при непосредственном знакомстве с городком, на улицах которого в эти послеполуденные часы не было ни души. Он побродил по центру в поисках почты, но когда нашел ее, то почта оказалась закрыта. Попытка заглянуть в магазин, в котором он побывал утром, закончилась столь же безуспешно. В конце концов коммандант уселся в тени королевы Виктории и принялся созерцать покрытые пылью пушницы, высаженные в скверике вокруг памятника. Сидевшая на веранде расположенного напротив магазинчика собака какого-то странного желтоватого оттенка лениво почесывалась, и ее вид заставил комманданта вспомнить о той новой роли, которую он теперь играл. «Под палящим солнцем могут гулять только бешеные псы и англичане, – взбодрил себя коммандант когда-то запомнившейся поговоркой и задумался о том, что стал бы делать настоящий англичанин в такое время дня в незнакомом ему городе. – Наверное, пошел бы ловить рыбу», – решил коммандант и, поднявшись с неприятным чувством, что королева Виктория оценивает его весьма критически, сел в машину и поехал назад в гостиницу.
Дух опустошенности, которым было пропитано здание гостиницы, сейчас казался еще сильнее. Две мухи все еще сидели, как в ловушке, между створками вращающейся двери, но больше уже не жужжали. Коммандант Ван Хеерден прошел пустым коридором к себе в комнату и взял удочку. При выходе возникли сложности: удочка и ведерко для рыбы не протискивались одновременно во вращающуюся дверь. Но в конце концов коммандант все же выбрался наружу и направился по тропинке, извивавшейся среди густой зелени, в сторону реки. Около слива из огромной сточной трубы он остановился, посмотрел, в какую сторону течет река, и пошел вверх по течению, решив, что не стоит ловить рыбу, которая нагулялась на стоках. Найти участок берега, который не был бы сплошь покрыт зарослями, оказалось непросто. Но коммандант все же отыскал подходящее местечко, уселся, выбрал самую многообещающую, на его взгляд, мушку – крупную, с ярко-красными крыльями – и забросил удочку. Вода в реке казалась неподвижной, и в ней не было видно признаков чьей-либо жизни, но комман-данта это не волновало. Он занимался тем, чем должен был заниматься настоящий английский джентльмен в жаркий летний полдень. Отлично зная, что англичане редко демонстрируют образцы эффективности в делах, коммандант сомневался и в том, что они способны кого-либо поймать, когда занимаются рыбной ловлей. Время текло неторопливо, и коммандант, разморенный жарой, начал как бы грезить наяву, одновременно и подремывая, и с удивительной ясностью видя себя со стороны. Вот он стоит на берегу неизвестной ему реки – полный пожилой человек в непривычной ему одежде – и ловит непонятно кого. Странное занятие, но оно помогало расслабиться и наполняло какой-то удивительной умиротворенностью. Пьембург и полиция со всеми их проблемами остались далеко-далеко и не имели уже никакого значения. Ван Хеердену было совершенно безразлично, что там происходит. Он чувствовал себя бесконечно оторванным от всего этого. Здесь, в горах, он если еще и не стал самим собой, то по крайней мере сильно приблизился к состоянию полной душевной раскрепощенности. Коммандант только было задумался над внутренним смыслом собственного восхищения всем английским, как чей-то голос прервал его грезы.
– О, за мушкой никогда не прячется крючок! – проговорил голос. Коммандант обернулся и увидел глазеющего на него коммивояжера, страдающего вспучиванием от газов.
– Иногда как раз прячется, – ответил коммандант, которому слова коммивояжера показались довольно-таки глупыми.
– Это цитата, цитата, – пояснил тот. – Боюсь, я их слишком часто употребляю. Издержки моей профессии. Это обычно вредит общению.
– Вот как, – нейтрально заметил коммандант, понятия не имевший о том, откуда может быть взята эта цитата. Он смотал удочку и с огорчением заметил, что мушка с крючка куда-то пропала.
– Видите, я все же оказался прав, – сказал коммивояжер. – Весь покрытый чешуей, всемогущий и святой.
– Простите? – переспросил коммандант.
– Еще одна цитата, – пояснил его собеседник. – Пожалуй, мне стоит представиться. Меня зовут Мальпурго. Я преподаю английский язык и литературу в университете Зулулэнда.
– Ван Хеерден, коммандант полиции из Пьембурга, – в свою очередь представился коммандант и был поражен эффектом, который произвели его слова. Мальпурго побледнел и казался откровенно встревоженным. – Что-нибудь не так? – спросил коммандант.
– Нет… – потрясенно ответил Мальпурго. – Все в порядке. Я просто… Ну, я и представить себе не мог, что вы… э-э-э… коммандант Ван Хеерден.
– А вы что, слышали обо мне? – спросил коммандант.
Мальпурго кивнул. Было очевидно, что ему действительно приходилось слышать раньше о комманданте. Ван Хеерден разобрал удочку.
– Думаю, я уже ничего сейчас не поймаю, – сказал он. – Уже слишком поздно.
– Самое хорошее время – вечером, – ответил Мальпурго, с любопытством разглядывая его.
– Правда? Интересно, – заметил коммандант, и они двинулись вдоль берега назад, в сторону гостиницы. – Я тут впервые взялся за удочку. А вы, наверное, завзятый рыболов? Похоже, вы разбираетесь в этом деле.
– Мои знания почерпнуты исключительно из литературы, – признался Мальпурго. – Я пишу диссертацию о «Провидении».
Коммандант Ван Хеерден был поражен.
– Это же страшно трудная тема? – спросил он.
– Это поэма Руперта Брука, – улыбнувшись, пояснил Мальпурго. – «Поэма о рыбе».
– Ах, вот оно что, – произнес коммандант. Он никогда в жизни не слышал о Руперте Бруке, однако теперь его интересовало все, что касалось английской литературы. – А этот Брук – он кто, английский поэт?
Мальпурго подтвердил догадку Ван Хеердена.
– Он погиб во время первой мировой войны, – пояснил Мальпурго, и коммандант выразил сожаление. – Дело в том, – продолжал преподаватель английской литературы, – что, на мой взгляд, эту поэму можно истолковать как простую аллегорию на тему состояния человека – la condition humaine, если вы понимаете, что я имею в виду, – но в ней есть также и более глубокий смысл, который можно истолковать в понятиях открытого Юнгом психоалхимического про цесса превращения.
Коммандант кивнул. Он не понял ни слова из того, что сказал Мальпурго, но ему было приятно слушать столь умные речи. Ободренный этим молчаливым согласием, Мальпурго стал с энтузиазмом развивать свои идеи дальше.
– Например, строки «И несомненно, что добро родится как-то из воды и грязи» ясно указывают на стремление поэта ввести юнговскую концепцию камня и его первородства как первичной материи – prima materia, – никак в то же время не уводя внимания читателя от несерьезного, юмористического тона поэмы.
Они дошли до огромной сточной трубы, и Мальпурго помог комманданту перенести через нее его ведерко. Явная тревога, с какой он среагировал на первоначальное знакомство с коммандантом, уступила у него место нервной говорливости в ответ на дружелюбный интерес со стороны комманданта, пусть даже и не окрашенный пониманием.
– Несомненно, это мотив индивидуализации, – продолжал рассуждать Мальпурго, пока они поднимались по дорожке от реки к гостинице. – На это явно указывают такие образы и сравнения, как «райские личинки»,[33] «неувядающие мотыльки»,[34] а также строка «И никогда не умирающий червяк».
– Да, наверное, – согласился коммандант уже в вестибюле гостиницы, и они расстались. Ван Хеерден шел по коридору в свой номер «6 – Промывка кишок» в приподнятом настроении. Ему удалось провести послеобеденные часы действительно по-английски – за рыбной ловлей и интеллектуальной беседой. Начало отпуска оказалось удачным, в какой-то мере оно даже компенсировало разочарование, испытанное коммандантом при первом знакомстве с гостиницей. По этому случаю коммандант решил принять перед ужином ванну. Некоторое время он потратил в безуспешных поисках ванной комнаты, но в конце концов вернулся к себе в номер и умылся над раковиной, явно предназначенной – судя по ее внешнему виду – для этой самой цели и вряд ли использовавшейся для чего-либо другого. Как и предупреждал его старик, вода в кране, обозначенном: «Хол.», оказалась горячей. Коммандант попробовал другой кран, но вода и там была такой же горячей. Коммандант побрызгал на себя теплой водой из какой-то кишки, слишком толстой для того, чтобы ее можно было использовать для клизмы. Запах от воды, однако, шел весьма странный. Умывшись подобным образом, коммандант уселся на кровать и прочел главу из «Берри и компания», благо до ужина еще оставалось время. Но ему не удалось полностью сосредоточиться на чтении. Как бы он ни садился, ему все время было видно собственное размытое отражение в зеркале платяного шкафа, и это создавало ощущение, будто в комнате постоянно присутствует кто-то еще. Чтобы избавиться от этого принудительного самосозерцания, коммандант улегся на кровать и попробовал разобраться, что же именно втолковывал ему Мальпурго. Во время разговора он не понял ничего, сейчас ясности было еще меньше, однако у него в голове непрерывно крутилась строчка «И никогда не умирающий червяк». Он вспомнил, что червяка можно разрезать пополам, и каждая из половинок начнет жить самостоятельной жизнью. В это было трудно поверить: но вдруг, подумалось комманданту, если один конец червяка окажется смертельно болен, то другой сумеет как-то отсоединиться от первого, от его смерти и сможет жить дальше. Возможно, что-то подобное имеют в виду, когда употребляют слово «терминальный».[35] Он никогда не мог понять смысла этого слова. Надо будет спросить Мальпурго, сразу видно, что тот – человек образованный.
Но когда он спустился в «Насосную» на ужин, Мальпурго там не было. Единственными компаньонами комманданта оказались две пожилые леди, сидевшие в дальнем углу комнаты. Поскольку из-за журчания фонтана разобрать их перешептывание было совершенно невозможно, коммандант поужинал, можно считать, в тишине и теперь просто сидел, наблюдая за тем, как за Аардваркбергом темнело небо. Завтра он обязательно разыщет адрес Хиткоут-Килкуунов и даст им знать, что приехал.
В семидесяти милях от Веезена, в Пьембурге, вечер, не обещавший, казалось, никаких происшествий, ближе к полуночи стал неожиданно бурным. Начиная с половины двенадцатого, город с интервалами в несколько минут друг между другом потрясли двенадцать мощных взрывов. Тот факт, что все они произошли в стратегически важных местах, полностью подтверждал мнение лейтенанта Веркрампа о существовании в городе хорошо организованной и законспирированной сети подрывных элементов. После того как горизонт озарил взрыв последней из подложенных бомб, Пьембург еще глубже погрузился в тот мрак забвения, который, собственно, и придавал ему известность.[36] Теперь он лишился электричества, телефонной связи и радио. Благодаря рвению секретных агентов Веркрампа прекратились шоссейные и железнодорожные связи с внешним миром. И без того тонкие нити, соединявшие столицу с XX веком, оборвались полностью.
С крыши здания полицейского управления, по которой прогуливался, дыша воздухом, Веркрамп, зрелище этого преображения показалось ему захватывающим. Только что Пьембург еще представлял собой скопление ярких неоновых огней и паутину освещенных улиц, и вдруг в одно мгновение весь город погрузился в полную, кромешную темноту и стал неотличим от окружавших его холмов Зулулэнда. Неразличима стала и телевизионная башня, всегда заметно выделявшаяся на фоне окружающего пейзажа. Веркрамп поспешно направился с крыши вниз, в камеры, где единственные в городе люди, которые могли бы порадоваться перебою с электричеством, все еще продолжали в темноте получать удары током от приводимых в действие вручную генераторов. Утешением для добровольцев было разве что отсутствие теперь изображений обнаженных черных женщин, поскольку диапроекторы тоже не работали.
В обстановке всеобщей паники только лейтенант Веркрамп сохранял удивительное спокойствие.
– Все в порядке, – прокричал он. – Волноваться не из-за чего. Продолжайте эксперимент, используйте обычные фотографии. – Веркрамп ходил от одной камеры к другой, раздавая фонари, которые он заранее приготовил, по-видимому, предполагая нечто подобное. Сержант Брейтенбах, как всегда, не разделял его спокойствия.


