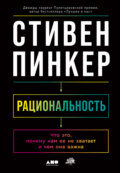Стивен Пинкер
Язык как инстинкт
Хотя физики и не видят оснований для проведения границ между цветами, физиологи все же их находят. Глаза не могут определить длину световой волны с той же точностью, с которой термометр определяет температуру. В глазах расположены три вида колбочек, каждая из которых имеет свой пигмент, чувствительный к разным частям светового спектра. Эти колбочки связаны с нейронами таким образом, что эти нервные клетки лучше всего определяют красные участки на зеленом фоне, синие – на желтом, черные – на белом и наоборот. Какое бы сильное влияние ни оказывал язык, любому физиологу идея о том, что язык может добраться до сетчатки глаза и перестроить нейронные связи в ганглионарных клетках, покажется нелепой.
В действительности все люди, живущие на Земле (а заодно и младенцы, и обезьяны), раскрашивают мир, который они воспринимают, используя одну и ту же цветовую палитру, и это ограничивает словарный запас, который они пополняют. И если языки могут по-разному называть карандаши в коробке из 64 цветов – жженая умбра, бирюза или фуксия, – им гораздо проще сойтись в названиях, когда речь идет о коробке с восемью карандашами разных цветов – красный, как пожарная машина, зеленый, как трава, или лимонно-желтый. Носители разных языков единодушно выбирают эти оттенки, чтобы показать, что они понимают под тем или иным названием цвета, если, конечно, в языке есть специальное слово для обозначения соответствующей области цветового спектра. И если языки различаются тем, как в них обозначаются цвета, то это различие можно предсказать. Если в языке есть только два слова для обозначения цвета, то это «черный» и «белый» (которые включают все темные и светлые цвета соответственно). Если три цвета, то это – черный, белый и красный; четыре – черный, белый, красный и либо желтый, либо зеленый. Если в языке пять цветов, то в нем есть слова и для зеленого, и для желтого; если шесть – добавляется синий; семь – коричневый; больше семи – фиолетовый, розовый, оранжевый или серый. Заключительный эксперимент – и наиболее важный для изучения наименований цветов в языках – был проведен в районе центрального горного хребта в Новой Гвинее. Участниками эксперимента стали представители народа дани, проживающего в Великой долине и говорящего на одном из «черно-белых» языков. Психолог Элеанор Рош обнаружила, что дани быстрее запоминали новые цветовые категории, если в их основе лежали оттенки огненно-красного (цвета пожарной машины), а не периферийные оттенки. Именно то, как мы воспринимаем цвета, влияет на нашу способность выбирать слова для их обозначения, а не наоборот.
Наличие кардинально другого представления о времени у народа хопи – одно из самых поразительных свидетельств того, как сильно может различаться мышление людей. Уорф писал, что в языке хопи «нет слов, грамматических форм, конструкций или выражений, которые могли бы обозначать то, что мы понимаем под словом "время", то есть нет обозначений прошлого, будущего, продолжающегося сейчас или регулярно происходящего». Он также предположил, что у народа хопи «нет представления или восприятия времени как бесконечно движущегося континуума, через который с одинаковой скоростью проходит все во Вселенной: от прошлого, через настоящее, к будущему». Согласно Уорфу, хопи не представляли события как отдельные точки, а промежутки времени вроде дней – как нечто исчисляемое. Вместо этого они обращали внимание на происходящие изменения и сам процесс, на психологические различия между известным на данный момент, мифическим и предположительно далеким. Хопи мало интересовали «точные последовательности событий, даты, календари, хронология».
Как же тогда мы должны понимать следующее предложение на языке хопи?
И действительно, на следующий день, довольно рано утром, в час, когда люди молятся солнцу, примерно в это же время он снова разбудил ту девочку.
Возможно, хопи не так уж и равнодушны к понятию времени, как показывает Уорф. Антрополог Экхарт Малотки, который и приводит это предложение из языка хопи, в своем фундаментальном исследовании отмечает, что речь хопи содержит грамматическое время, временные метафоры, промежутки времени (дни и их количество, части суток, вчера и завтра, недели и дни недели, месяцы, фазы луны, времена года и сам год), количественные оценки единиц времени, слова со значениями 'древний', 'быстрый', 'длительный' и 'законченный'. Народ хопи записывает события, обозначая их время. Сложные способы определения времени включают в себя солнечные календари, основанные на положении солнца относительно горизонта, точный порядок следования обрядовых дней, узелковые календари, календарные палочки с зарубками и несколько устройств, работающих по принципу солнечных часов, с помощью которых можно отслеживать время. Никто не знает, как именно Уорф пришел к своим нелепым выводам, однако можно предположить, что сыграли свою роль отсутствие достаточного количества примеров из языка хопи и плохо проведенный анализ, а также его вечное стремление ко всему загадочному.
Если уж мы заговорили об антропологических «утках», то стоит сказать, что ни одна лингвистическая дискуссия не обходится без упоминания великого мифа об эскимосском языке. Вопреки распространенному мнению, в эскимосском языке не больше слов для обозначения снега, чем в английском. Там нет ни четырехсот слов, обозначающих виды снега, как писали газеты, ни двухсот, ни сотни, ни сорока восьми, ни даже девяти. В одном словаре насчитывается всего два слова. Если постараться, то можно найти с десяток слов, однако при таких подсчетах и английский язык не будет сильно отставать от эскимосского: snow 'снег', sleet 'снежная крупа', slush 'снежная каша', blizzard 'метель', avalanche 'лавина', hail 'град', hardpack 'плотный сжатый снег', powder 'рыхлый снег', flurry 'ливневый снег', dusting 'тонкий слой снега', а также неологизм, придуманный метеорологом бостонского телеканала WBZ-TV Брюсом Швеглером, – snizzling 'мелкий снегопад'[18].
Откуда взялся этот миф? Он не был придуман кем-то, кто действительно изучал юпикские и инуитские полисинтетические языки, которые распространены от Сибири до Гренландии. Антрополог Лаура Мартин описывает, как эта история стала городской легендой, с каждым пересказом становящейся все более впечатляющей. В 1911 году Франц Боас вскользь упомянул, что в эскимосском языке существует четыре несвязанных корня для обозначения снега. Уорф приукрасил это, добавив еще три корня и намекнув на то, что их на самом деле больше. Его статья была напечатана в разных изданиях, ее цитировали в учебниках и научно-популярных книгах о языке, что привело к еще большему увеличению количества «снежных» слов в других учебниках, статьях и газетных колонках, посвященных удивительным фактам.
Лингвист Джеффри Пуллум, рассказавший о статье Мартин в своем эссе «Великий миф об эскимосском языке», рассуждает о том, почему история вышла из-под контроля: «Мнимая лексическая вычурность эскимосов согласуется с другими сторонами их полисинтетического своенравия: поцелуи носами, прокат жен, поедание сырого тюленьего жира, оставление стариков на съедение белым медведям». Это, конечно же, ирония. Гипотеза лингвистической относительности зародилась в школе Боаса в качестве одного из способов продемонстрировать не менее сложное устройство и богатство языков бесписьменных культур в сравнении с европейскими. Однако истории, которые, казалось бы, расширяют границы мышления, на самом деле привлекательны из-за покровительственного желания относиться к психологии других культур как к чему-то странному и экзотическому. Пуллум отмечает:
Помимо многих других удручающих фактов, касающихся легковерной передачи и преувеличения этого ложного утверждения, важно и то, что даже если в каком-то языке народов Арктики и есть огромное количество корней для обозначения разных типов снега, то это бы не представляло никакой объективной интеллектуальной ценности, это был бы самый обычный, ничем не примечательный факт.
У конезаводчиков есть специальные термины для лошадей разных пород, размеров и возраста; ботаник сможет назвать листья разной формы; дизайнер интерьера различает оттенки сиреневого цвета; работники типографии знают названия различных шрифтов (Carlson, Garamond, Helvetica, Times Roman и так далее) – все это вполне естественно. Придет ли кому-то в голову писать о типографах то же самое, что можно прочесть об эскимосах в плохих учебниках по лингвистике? Возьмите любой такой учебник – и вы найдете следующее серьезное утверждение: «Довольно очевидно, что снег – это важнейшая часть эскимосской культуры, так что понятийная область, которая соответствует в английском языке одному слову и одной идее, в эскимосском делится на несколько подклассов». Представьте себе такое: «Довольно очевидно, что шрифт является важнейшей частью культуры типографов, так что понятийная область, которая соответствует в языке нетипографов одному слову и одной идее, в типографском языке делится на несколько подклассов». Даже если так и есть, эта фраза звучит совсем неинтересно. И только когда речь идет о легендарном народе, славящимся своими беспорядочными связями, поеданием тюленьего жира, охотой на льду, весьма банальный факт становится пищей для размышления.
Если рассказы антропологов – это просто байки, то что насчет систематических исследований? Тридцать пять лет работ, проводимых в психологических лабораториях, примечательны лишь тем, как мало они показывают. В большинстве экспериментов проверялась «слабая» версия гипотезы Уорфа, согласно которой слова могут в некоторой мере влиять на мышление и категоризацию действительности. Некоторые из этих экспериментов действительно были удачными, но вряд ли это должно вызывать удивление. В типичном эксперименте участники обычно запоминают, какие цвета предъявляются им на небольших карточках, а затем то, как они это запомнили, проверяется с помощью теста с выбором вариантов ответа. В некоторых подобных исследованиях испытуемые лучше запоминают цвета, названия которых есть в их родном языке, однако даже цвета, названий для которых нет, запоминаются довольно хорошо, так что эксперимент не доказывает, что цвета запоминаются только благодаря наличию словесных обозначений. Единственное, что такие эксперименты показывают, так это способность участников запоминать предъявляемые им цвета и визуально, и вербально – и, вероятно, в тех случаях, когда включаются два типа запоминания, каждый из которых имеет свои недостатки, цвет закрепляется в памяти лучше. В экспериментах другого рода испытуемых просят определить, какие два цвета из трех больше похожи между собой, и обычно в этом случае называют те, что в языке участников эксперимента имеют одинаковое название. И в этом тоже нет ничего удивительного. Могу представить себе, что думают во время эксперимента его участники: «Как вообще этот парень хочет, чтобы мы выбрали два цвета из трех? Он даже никак не намекнул, что ему нужно, а все эти цвета довольно похожи. Хм, наверное, вот эти два цвета я бы назвал зелеными, а вот этот – синим. Отличный способ выбрать любые два цвета из трех». С технической точки зрения, конечно, эти эксперименты показывают, что язык в некотором роде влияет на наше мышление, но что из этого? Вряд ли это можно назвать доказательством, что взгляды на устройство мира у разных народов не имеют ничего общего, или что идеи без названий не могут существовать даже в мыслях, или что наш родной язык в обязательном порядке делит окружающий мир на категории.
Единственное потрясающее открытие было сделано лингвистом, а ныне президентом Суортмор-колледжа Альфредом Блумом в его книге «Языковое формирование мышления» (The Linguistic Shaping of Thought). Блум пишет, что в английской грамматике возможны сослагательные конструкции: «Если бы Джон собирался в больницу, он бы встретил Мэри». Сослагательное наклонение используется тогда, когда говорящему нужно описать какую-то гипотетическую ситуацию, события, которые не соответствуют реальности, но которые желательно представить как потенциально возможные. (Всем, кто знаком с идишем, известен отличный пример таких конструкций, использующийся, когда необходим находчивый ответ собеседнику, который рассуждает, используя маловероятные предпосылки: Az di bobe volt gehat beytsim volt zi geven mayn zeyde 'Если бы у моей бабушки были яйца, она была бы дедушкой'.) В китайском же нет сослагательного наклонения или других простых грамматических конструкций, с помощью которых можно выразить гипотетическую ситуацию. Такие значения передаются описательно фразами вроде «Если Джон собирается в больницу… а он не собирается в больницу… но если он собирается, то он встретит Мэри».
Блум сочинил истории, содержащие целые последовательности из сослагательных конструкций, и показал их американским и китайским студентам. Одна из историй звучала так: «Бир был европейским философом восемнадцатого века. В то время Запад и Китай поддерживали связи, но очень мало философских работ было переведено с китайского языка. Бир не умел читать по-китайски, но если бы он умел, то он бы обнаружил B, наибольшее влияние на него оказало бы C; попав под влияние работ китайских философов, он бы сделал D», и так далее. Затем студентов попросили ответить на вопрос, действительно ли происходило B, C или D. Американские студенты давали правильный ответ «нет» в 98 % случаев, а китайские – только в 7 %! Блум сделал вывод, что из-за грамматики китайского языка его носителям трудно представлять себе гипотетические миры, не прилагая значительных умственных усилий. (Насколько мне известно, никто не пытался проверить противоположную гипотезу на носителях идиша.)
Когнитивные психологи Терри О, Ётаро Такано и Лиза Лю не были в восторге от подобных историй о прямолинейности мышления людей Востока. Каждый из них обнаружил серьезные недостатки в эксперименте Блума. С одной стороны, тексты были записаны по-китайски довольно высокопарно и звучали поэтому неестественно. С другой стороны, при внимательном чтении каждая история оказывалась двусмысленной. Китайские студенты обычно больше занимаются наукой, чем американские, и поэтому для них были более заметны двусмысленные ситуации в историях, чего сам Блум не заметил. Когда эти недостатки исправили, различия в мышлении американских и китайских студентов также исчезли.
Людей можно простить за то, что они переоценивают язык. Слова создают шум или просто покоятся на страницах, но все для того, чтобы их услышали или прочитали. Мысли заперты в голове того, кто думает. Чтобы узнать, о чем кто-то думает, или чтобы поговорить с кем-то о природе мышления, мы должны использовать не что иное, как слова. Неудивительно, что многим экспертам сложно даже представить, что мысли могут существовать без слов. А может, у них просто нет языка, чтобы об этом говорить?
Будучи когнитивным лингвистом, я могу позволить себе некоторый снобизм и сказать, что смысл сам по себе, вне языка, существует и что теория лингвистического детерминизма – это всеобщее заблуждение. В настоящее время имеется два типа инструментов, с помощью которых можно осмыслить эту проблему. Один из них – это экспериментальные исследования, позволяющие прорваться за словесный барьер и проанализировать невербальные мысли. Другой представляет собой теоретические изыскания, посвященные работе мышления, что ставит перед нами вполне определенные вопросы.
Мы уже видели на примере мистера Форда, как существует мышление без языка – афатика с сохранившимися интеллектуальными способностями, которая обсуждалась в главе 2. Можно, правда, поспорить, что его умственные способности сформировались до того, как случился инсульт, с помощью языка, которым он тогда владел. Мы также встречали неслышащих детей, которые сами изобретали язык. И еще более показательный пример – это случайно обнаруженные неслышащие взрослые, которые не имеют вообще никакого языка: ни жестового, ни письменного, ни основанного на чтении по губам, ни устного. В своей недавно вышедшей книге «Человек без слов» (A Man Without Words) Сьюзан Шаллер рассказывает историю Ильдефонсо, двадцатисемилетнего иммигранта из небольшой мексиканской деревни, с которым она встретилась, когда работала переводчиком с жестового языка в Лос-Анджелесе. В полных жизни глазах Ильдефонсо можно было ясно видеть интеллект и любопытство, и Шаллер стала его учителем и другом. Вскоре стало понятно, что он понимает, что такое числа: он научился складывать их на бумаге за три минуты, и для него не составило труда понять, что в основе двузначных чисел лежит число «десять». На Ильдефонсо снизошло озарение, как в случае Хелен Келлер, и он освоил принцип именования, когда Шаллер разучивала с ним обозначение понятия «кошка». Барьер был снят, и он начал требовать, чтобы ему показывали жестовые знаки для всех объектов, которые были ему знакомы. Вскоре он смог рассказывать Шаллер о некоторых эпизодах его жизни: как, будучи ребенком, он умолял своих отчаянно бедных родителей отправить его в школу, какой урожай он собирал в разных штатах, как уклонялся от иммиграционных служб. Он привел Шаллер к другим не имеющим языка взрослым из забытых слоев общества. Будучи изолированными от вербального мира, они демонстрировали множество форм абстрактного мышления, такие как починка сломанных замков, обращение с деньгами, умение играть в карты и показ пантомим в качестве развлечения.
Наши знания об умственной жизни Ильдефонсо и других людей, не имеющих языка, всегда будут обрывочными по этическим причинам: когда о них становится известно, первостепенной задачей является обучение их языку, а не исследование того, как они справляются без него. Тем не менее существуют другие бессловесные объекты для экспериментальных исследований. Целые тома посвящены тому, как они осмысляют пространство, время, количество, масштаб, как устанавливают причинно-следственные связи, как делят окружающий мир на категории. Позвольте мне привести три ярких примера. Во-первых, младенцев, которые не могут думать с помощью слов, поскольку еще не знают никаких слов. Во-вторых, обезьян, которые не могут думать с помощью слов, потому что не способны их выучить. В-третьих, взрослых людей, которые вне зависимости от того, мыслят они с помощью слов или нет, утверждают, что лучше всего думается без них.
Психолог Карен Уинн, занимающаяся психологией развития, недавно показала, что пятимесячные младенцы способны производить в уме несложные подсчеты. Она применяла методику, которую часто используют в исследованиях восприятия у маленьких детей. Если ребенку долгое время показывать группу объектов, ребенок устает и начинает смотреть по сторонам, но стоит только изменить картинку, и ребенок сразу замечает разницу, и ему снова становится интересно. Эта методика продемонстрировала, что даже младенцы пяти дней от роду воспринимают количество. В одном эксперименте ученый долгое время показывает ребенку некий предмет, что ребенку надоедает. Затем этот предмет закрывают непрозрачным экраном и спустя некоторое время экран убирают и снова показывают ребенку предмет. Младенцы смотрят на него совсем недолго, пока им снова не становится скучно. Однако если во время манипуляций с экраном добавить еще пару предметов, пока они скрыты от ребенка, то младенцы смотрят дольше.
В эксперименте Уинн показывала игрушечного Микки-Мауса на сцене до тех пор, пока глазки детей не начинали разбегаться. Затем появлялся экран, и на виду у детей рука из-за занавеса демонстративно помещала второго Микки за экраном. Если после того, как убрали экран, дети видели двух Микки-Маусов (что до этого они никогда не наблюдали), то они смотрели на сцену совсем недолго. Однако, если на сцене все еще была одна игрушка, дети смотрели на нее не отрываясь, хотя на сцене была та же картина, которая наскучила им до того, как туда поместили экран. Уинн также провела эксперимент с другой группой младенцев. На этот раз экран закрывал двух Микки-Маусов, а рука на виду у детей убирала одну из игрушек. Экран убирали, и если за ним оказывался один Микки-Маус, то дети смотрели на него непродолжительное время, а если перед детьми открывалась уже знакомая им сцена с двумя игрушками, то они дольше не могли оторваться от нее. Скорее всего, дети запоминали, сколько игрушек должно быть за экраном, и изменяли свое представление об их количестве с учетом вычитания или прибавления игрушек, которое они видели. Если по необъяснимым причинам количество Микки-Маусов отличалось от того, что они ожидали, они внимательно рассматривали сцену в поисках причины.
Обезьяны-верветки живут в группах, состоящих из взрослых самцов и самок и их потомства. Приматологи Дороти Чини и Роберт Сейфарт обнаружили, что расширенные семьи объединяются в союзы, как Монтекки и Капулетти. Когда одна молодая обезьяна с криком повалила другую на землю, спустя 20 минут сестра жертвы подошла к сестре виновного и без всякого повода укусила ее за хвост. Чтобы отомстить, обезьяна должна была точно определить цель своей мести, а для этого нужно решить следующую пропорцию: A (жертва) относится к B (ко мне) как C (виновник) относится к X, используя подходящий термин родства «сестра» (возможно, просто термин «родственник», но в парке было недостаточно верветок, чтобы Чини и Сейфарт могли сказать точно).
Но действительно ли обезьяны одной группы знают, что они друг с другом связаны, или, что впечатлило бы еще больше, понимают ли они, что разные пары, например братья и сестры из разных групп, связаны между собой одинаковым образом? Чини и Сейфарт спрятали за кустом колонки и включили запись плача двухлетней обезьяны. Все самки, находящиеся поблизости, отреагировали на запись, посмотрев на маму обезьяны, чей плач был записан, показывая, что они не только узнали плачущего детеныша, но и вспомнили, кто его мать. Похожие способности были обнаружены у длиннохвостых макак, которых исследовательница Верена Дассер заманила в лабораторию, соединенную с вольером, на открытом воздухе. Она показывала три слайда: посередине была изображена мама, с одной стороны был ее детеныш, а с другой – не состоящая с ними в родстве обезьяна того же возраста и пола, что детеныш. Под каждым экраном была кнопка. После того как обезьяна научилась нажимать кнопку под экраном со своим детенышем, ей показывали фотографии других матерей той же группы, каждую из которых окружали фотографии ее ребенка и ребенка другой обезьяны. В более чем 90 % случаев тестируемая обезьяна правильно определяла детеныша. В другом эксперименте обезьянам показывали два слайда, на каждом из которых была изображена пара обезьян. Тестируемых макак обучали нажимать на кнопку под слайдом, изображающим определенную мать и ее дочь подросткового возраста. Когда же им предъявляли фотографии новых обезьян в группе, то они всегда выбирали пару «мать и ребенок», вне зависимости от того, был ли детеныш самцом, самкой, младенцем, подростком или взрослым. Более того, оказалось, что, определяя на фото родственников, испытуемые обезьяны опираются не только на внешнее сходство внутри демонстрируемых пар и не на количество часов, которое эти обезьяны проводили вместе, но на что-то более неосязаемое в их взаимоотношениях, что-то, что не лежит на поверхности. Чини и Сейфарт, которые усердно работали, выясняя, кто с кем находится в родственных отношениях и в каких именно в группе животных, которую они изучают, отмечают, что из обезьян получились бы отличные приматологи.
Многие творческие люди утверждают, что в моменты вдохновения к ним на ум приходят не слова, а ментальные образы. Поэт Сэмюэл Тейлор Кольридж писал, что однажды слова и картинки непроизвольно появились перед ним в виде мысленных образов, когда он находился в полусонном состоянии (возможно, под воздействием опиума). Ему удалось перенести первые сорок строк на бумагу (которые теперь нам известны как поэма «Кубла Хан, или Видение во сне»), пока стук в дверь не разрушил образы и не уничтожил навечно то, что могло бы стать окончанием поэмы. Многие современные романисты, например Джоан Дидион, рассказывают, что процесс создания романа начинается не с героев и не с сюжета, а с живых образов в голове, которые определяют выбор слов. Современный скульптор Джеймс Серлз планирует свои проекты, лежа на диване и слушая музыку. Он говорит, что в своем воображении он может управлять скульптурами, добавляя руку, убирая руку, смотреть, как его образы крутятся и вертятся. Ученые-естествоведы еще больше убеждены, что их мышление геометрическое, а не вербальное. Майкл Фарадей, родоначальник современной теории об электрических и магнитных полях, не имел специальной математической подготовки, озарение его постигло, когда он представлял силовые линии в виде узких трубочек, изгибающихся в пространстве. Джеймс Клерк Максвелл формализовал идею электромагнитного поля с помощью ряда математических уравнений. Он считается одним из главных физиков-теоретиков, однако и он сформулировал свои уравнения только после того, как тщательно проиграл в своей голове различные опыты с воображаемыми моделями токовых слоев и жидкостей. Электродвигатель и генератор Николы Теслы, бензольное кольцо Фридриха Кекуле, которое положило начало современной органической химии, циклотрон Эрнеста Лоуренса, двойная спираль ДНК, открытая Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком, – все это пришло к своим создателям в виде образов. Самым известным «визуальным мыслителем», как он сам себя называет, является Альберт Эйнштейн, который представлял себя верхом на луче света, оглядывающимся на часы или бросающим монету в падающем лифте. Он писал:
Физические сущности, которые, как представляется, служат элементами мысли, – это определенные знаки, более или менее ясные образы, которые можно воспроизводить и комбинировать по своей воле. Такая комбинаторная игра кажется существенным признаком продуктивного мышления – еще до того, как появляются логические конструкции, выраженные словами или другими типами знаков и способные быть переданными другим людям. Элементы, упомянутые выше, в моем случае являются элементами зрительного или некоторого мышечного типа. Условные слова и другие знаки должны быть тщательно подобраны только на второй стадии, после того как упомянутая ассоциативная игра была должным образом налажена и ее можно было бы воспроизвести по желанию в любое время.
Другая творческая личность, когнитивный психолог Роджер Шепард, также столкнулся с внезапной визуальной вспышкой вдохновения, что привело к появлению классической демонстрации ментальных образов, которыми управляют люди, в лабораторных условиях. Одним ранним утром в состоянии между сном и бодрствованием в ясном сознании Шепард почувствовал кинетический образ трехмерных фигур, величественно вращающихся в пространстве. Пока он видел эти образы, еще не полностью проснувшись, в голову Шепарда пришла идея дизайна эксперимента. Простой вариант этого эксперимента Шепард впоследствии осуществил вместе со своей студенткой Линн Купер. Они показывали многострадальным студентам-волонтерам тысячи слайдов с изображениями букв английского алфавита. Иногда эти буквы были показаны прямо, но иногда они были наклонены или отображены зеркально. На картинке ниже приводятся примеры 16 вариантов буквы F.

Студенты должны были нажимать на одну кнопку, если они видели обычную букву (то есть одну из букв в верхней строчке на рисунке), и другую кнопку, если перед ними было зеркальное отражение буквы (как в нижнем ряду). Чтобы выполнить это задание, студенты должны были сравнить букву, изображенную на слайде, со своим воспоминанием о том, как должна выглядеть буква в нормальном положении. Очевидно, что слайд с изображением самой буквы (0 градусов) распознавался быстрее всего, но буквы с отклонениями требовали произвести некоторые мысленные трансформации исходной буквы. Многие испытуемые отмечали, что они, подобно известным скульпторам и ученым, «мысленно вращали» изображения букв, чтобы привести их в прямое положение. Шепард и Купер выявили, что время реакции соответствовало тому, что говорили студенты. Вертикальные буквы распознавались быстрее всего, за ними шли буквы, повернутые на 45°, затем на 90° и на 135° соответственно, и медленнее всех распознавались буквы, повернутые на 180°. Другими словами, чем больше нужно были мысленно переворачивать букву до принятия ею вертикального положения, тем дольше они смотрели на букву, прежде чем принять решение. Данные эксперимента позволили Купер и Шепарду определить скорость вращения букв в сознании испытуемых. Она составила 56 оборотов в минуту.
Обратите внимание: если бы испытуемые использовали нечто вроде словесных описаний формы букв, такие как «вертикальная ось, от которой вправо отходят один горизонтальный сегмент сверху и один горизонтальный сегмент от середины», результаты бы значительно отличались. Среди всех перевернутых букв быстрее всего должны были бы распознаваться буквы, повернутые на 180°, так как их переворот формулируется проще всего: в исходном словесном описании надо заменить «сверху» на «снизу» и наоборот, а также «вправо» на «влево» – так можно получить описание новой фигуры и сравнить ее с тем описанием исходной буквы, которое есть у нас в памяти. Буквы, наклоненные на 90°, распознавались бы медленнее, потому что слово «сверху» в определении буквы может меняться как на «справа», так и на «слева» в зависимости от того, как буквы отклоняются от исходной фигуры: по часовой стрелке или против. Решение для букв, расположенных по диагонали, принималось бы медленнее всего, так как каждое слово в описании должно быть заменено другим: «сверху» на «сверху справа» или «сверху слева» и так далее. Таким образом, по степени возрастания сложности распознавания буквы бы располагались так: 0°, 180°, 90°, 45°, 135°, что отличается от результатов, полученных Купер и Шепардом: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°. Многие другие эксперименты также подтверждают идею о том, что визуальное мышление оперирует не языком, а ментальной графической системой, с помощью которой можно вращать, сканировать, увеличивать, панорамировать, перемещать и достраивать шаблоны.
* * *
Какой практический смысл может иметь предположение, что изображения, числа, отношения родства, логические операции могут быть представлены у нас в голове не в виде слов? В начале этого века философы отвечали так: никакой. Они говорили, что представлять мысли в материальном виде у нас в голове означает совершать логическую ошибку. Изображения семейного древа или числа в голове требуют наличия там же маленького человека, гомункула, который бы на них смотрел. Аргумент нельзя назвать убедительным. Только Алан Тьюринг, гениальный британский математик, смог добиться того, что идея ментальных репрезентаций начала пользоваться уважением ученых. Тьюринг описал гипотетическую машину, которая могла бы осуществлять мыслительную деятельность. Это простое устройство, которое было названо машиной Тьюринга в его честь, настолько мощно, что может решить любую задачу, которую может решить любой компьютер прошлого, настоящего или будущего. Известно также, что эта машина использует внутреннюю символьную репрезентацию – своего рода ментальный язык – и совсем не требует наличия маленького человечка или оккультизма. Взглянув на то, как работает машина Тьюринга, мы сможем получить представление о том, что значит думать на ментальном языке, а не на английском.