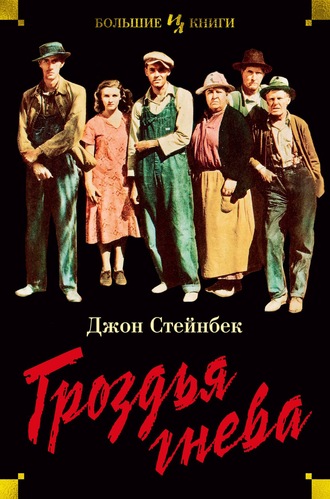
Джон Эрнст Стейнбек
Гроздья гнева
Бабка сказала с гордостью:
– Второго такого брехуна, разбойника ищи – не найдешь! В пекло прямо на кочерге въедет, слава Господу. Вздумал тоже – будет править грузовиком, – злобно добавила она. – Так вот, не выйдет!
Дед поперхнулся, выплюнул прямо на колени кусок непрожеванной лепешки и слабо закашлялся.
Бабка, улыбаясь, посмотрела на Тома.
– Вот неряха-то! – сказала она.
Ной поднялся на приступку, и его широко расставленные глаза словно смотрели мимо Тома. Лицо у Ноя было спокойное. Том сказал:
– Ну, как живешь, Ной?
– Хорошо, – ответил Ной. – А ты как? – И все. Но услышать это Тому было приятно.
Мать согнала мух с подливки.
– За столом всем места не хватит, – сказала она. – Берите тарелки и рассаживайтесь где как придется. Или на дворе, или здесь.
И Том вдруг спохватился.
– Э-э! А где же проповедник? Только что был здесь. Куда он делся?
Отец сказал:
– Я видел, он ушел куда-то.
Послышался скрипучий голос бабки:
– Проповедник? Ты привел проповедника? Давай его сюда. Пусть прочтет молитву. – Она показала пальцем на деда. – Поторопился, ест уже. Давайте сюда проповедника.
Том вышел за дверь.
– Эй, Джим! Джим Кэйси! – крикнул он и спустился во двор. – А, Кэйси! Вот ты где. – Проповедник вылез из-под цистерны, сел на землю, потом встал и подошел к дому. Том спросил: – Ты что, прячешься?
– Да нет. Зачем чужому соваться в семейные дела. Я просто сидел и думал.
– Пойдем, поешь с нами, – сказал Том. – Бабка хочет, чтобы ты прочел молитву.
– Ведь я больше не проповедник, – запротестовал Кэйси.
– Брось, пойдем. Прочти молитву. Тебя от этого не убудет, а она любит помолиться. – Они вошли на кухню вместе.
Мать спокойно сказала:
– Добро пожаловать.
И отец тоже сказал:
– Добро пожаловать. Садись, позавтракаем.
– Молитву, – требовала бабка. – Пусть сначала прочтет молитву.
Дед свирепо уставился на Кэйси и наконец узнал его.
– Ах, этот? – сказал он. – Ну, этот ничего. Он мне еще с тех пор понравился, как я увидел раз… – Дед похабно подмигнул, и бабка, решив, что он сказал какую-нибудь непристойность, прикрикнула на него:
– Замолчи, греховодник! Старый козел!
Кэйси, взволнованный, прочесал пальцами волосы.
– Должен вам сказать… я уже больше не проповедник. Если достаточно того, что мне приятно быть здесь, среди простых, добрых людей… если этого достаточно, тогда я помолюсь, как сумею. Но я уже больше не проповедник.
– Молись, – сказала бабка. – И не забудь вставить словечко о том, что мы уезжаем в Калифорнию.
Проповедник, а вслед за ним и остальные склонили голову. Мать склонила голову и скрестила руки на коленях. Бабка нагнулась так низко, что еще немного и клюнула бы носом в подливку. Том, стоявший у стены с тарелкой в руках, опустил голову чуть-чуть, а дед вывернулся боком, чтобы послеживать злющим и веселым глазом за проповедником. Лицо у проповедника было не набожное, а задумчивое, и в словах его звучала не мольба, а размышление.
– Я все думал, – начал он. – Я бродил среди холмов и думал, почти как Иисус, когда Он удалился в пустыню, чтобы разобраться во всех своих заботах и горестях.
– Сла-ава Господу Богу! – сказала бабка, и проповедник с удивлением взглянул на нее.
– Иисуса так одолели заботы и горести, что Он не мог решить, как Ему быть дальше. И взяло Его сомнение: какого черта! Зачем бороться с самим собой и ломать себе голову? Устал Он, очень устал и пал духом. Еще немного, и так бы и порешил: к черту все это! И тогда удалился Он в пустыню.
– Ами-инь! – проскрипела бабка. Столько лет она приурочивала свое «аминь» к паузам в молитвах, и ей уж столько лет не приходилось слушать Слово Божие и дивиться ему.
– Я не хочу равнять себя с Иисусом, – продолжал проповедник. – Но я устал, так же как Он, и запутался в своих мыслях, так же как Он, и ушел в пустыню, так же как Он, не взяв с собой ни палатки, ни вещей. По ночам я лежал на спине и глядел на звезды; утром сяду и смотрю, как всходит солнце; днем вижу с холма сухую землю внизу; вечером провожаю солнце. Иногда начну молиться, как и раньше. Только кому молюсь, за кого молюсь, сам не знаю. Вокруг меня холмы, и я брожу среди этих холмов, и я с ними теперь одно целое. Мы едины. И это единство свято.
– Аллилуйя, – сказала бабка и начала покачиваться взад и вперед, стараясь вызвать в себе молитвенный восторг.
– И я призадумался, только думы у меня были не такие, как всегда, а глубже. Я думал о том, что во всех нас была святость, когда мы жили одной семьей, и все человечество было свято, пока оно было едино. Но святость эта покинула нас, лишь только какой-то один дрянной человек ухватил зубами кусок побольше и убежал с ним, отбиваясь от остальных. Вот такой человек и убил нашу святость. А когда мы все трудились вместе, не один на другого, а все вместе, в одной упряжке, тогда было хорошо, в таком труде была святость. Додумался я до этого и, гляжу, сам не знаю: что же такое святость? – Он замолчал, но его слушатели не поднимали головы, потому что они, как натасканные собаки, дожидались команды – слова «аминь». – Я теперь не могу читать прежние молитвы. Я радуюсь святости вашей трапезы. Радуюсь, что среди вас есть любовь. Вот и все. – Склоненные головы не поднялись. Проповедник посмотрел по сторонам. – Из-за меня ваш завтрак остынет, – сказал он; потом вспомнил: – Аминь. – И головы поднялись.
– Ами-инь, – протянула бабка и принялась за еду, жуя беззубыми старческими деснами пропитавшиеся подливкой лепешки.
Том ел быстро, отец откусывал большими кусками. Пока все не было съедено и выпито, на кухне царило молчание; слышалось только, как похрустывает пища на зубах и как прихлебывают горячий кофе. Мать не отрывала глаз от проповедника, и взгляд у нее был пытливый, пристальный, понимающий. Она смотрела на него, словно это был не человек, а дух, голос которого донесся до нее откуда-то из-под земли.
Кончив есть, мужчины поставили тарелки на стол, допили остатки кофе. Потом вышли во двор – отец, проповедник, Ной, дед, Том – и зашагали к грузовику, обходя сваленную в кучу мебель, деревянные кровати, механизм ветряка, старый плуг. Они подошли к машине и остановились возле нее. Потрогали новые борта из сосновых досок.
Том открыл капот и стал разглядывать большой, измазанный маслом мотор. Отец подошел к нему.
– Когда мы ее покупали, Эл все проверил. Говорит, в порядке.
– А что Эл смыслит? Он же щенок.
– Эл в прошлом году работал в одной фирме. Водил грузовик. Кое-что в них смыслит. К нему теперь не подступись, важный стал. Мотор собрать для него плевое дело.
Том спросил:
– А где он сейчас?
– Где? – сказал отец. – Шляется. Блудит, как мартовский кот. Дорос до шестнадцати лет и заважничал. Он теперь сам себе голова. Только и думает что о девчонках да о машинах. Дома уж с неделю не ночевал.
Дед, теребивший пальцами ворот, ухитрился наконец продеть пуговицы синей рубахи в петли фуфайки. Пальцы чувствовали, что получилось неладно, но не стали доискиваться причины. Рука потянулась вниз, сделав еще одну попытку разобраться в сложной застежке брюк.
– Я был хуже, – радостно проговорил дед. – Куда хуже. Я отчаянный был! Помню, в Саллисо собрались на моление, а я тогда был постарше Эла. Эл щенок, а я тогда был постарше. Вот пошли мы на моление. Там собралось человек пятьсот, девчонок – пропасть…
– А ты, дед, и сейчас все такой же отчаянный, – сказал Том.
– Держусь понемножку. Только до прежнего далеко. Вот подождите, приеду в Калифорнию, буду там есть апельсины. И виноград. Никогда винограду всласть не ел. Сорву с куста целую кисть, вопьюсь в нее, только сок брызнет.
Том спросил:
– А где дядя Джон? Где Роза? Где Руфь и Уинфилд? Про них никто и словом не обмолвился.
Отец сказал:
– Про них никто и не спрашивал. Джон уехал в Саллисо продавать кое-какой скарб: насос, инструменты, кур – все, что мы захватили с фермы. Взял с собой Руфь и Уинфилда. Они еще до рассвета уехали.
– Как же это я с ними не повстречался? – сказал Том.
– Так ведь ты шел по шоссе, а они поехали прямиком, через Каулингтон. Роза и Конни у его родителей. Эх! Да ведь ты еще не знаешь, что Роза вышла за Конни Риверса! Помнишь Конни? Хороший малый. Розе уж рожать месяца через три, через четыре. Пухнет день ото дня. Цветет.
– Вот так так! – сказал Том. – Роза при мне была еще девчонкой. А теперь собралась рожать. Да-а, не живешь дома, и чего только не случится за четыре года. Когда же ты думаешь выехать, па?
– Да вот надо распродать добро. Я думал, Эл вернется, погрузит все на машину, свезет в город на продажу, тогда завтра или послезавтра выедем. С деньгами у нас плоховато, а тут один говорил, что до Калифорнии все две тысячи миль наберется. Чем раньше выехать, тем лучше. Деньги так и текут. У тебя есть что с собой?
– Два доллара. А ты откуда наскреб?
– Что было на ферме, все продали, – ответил отец, – а потом пошли всем скопом окучивать хлопок. Дед и тот окучивал.
– Окучивал, – подтвердил дед.
– Подсчитали – оказалось двести долларов. Семьдесят пять ушло на машину. Верх мы с Элом розняли, приспособили платформу. Эл собирался притереть клапаны, да вот шляется черт его знает где, никак не может взяться за дело. К отъезду останется долларов полтораста. Уж очень покрышки старые, на них далеко не уедешь. Взяли еще пару запасных, да тоже подержанные. Придется, верно, по дороге кое-что прикупать.
Солнце, стоявшее прямо над головой, обжигало лучами. Грузовик отбрасывал на землю темные полосы тени; от него пахло нагретым маслом, клеенкой и краской. Куры ушли со двора и спрятались от зноя в сарайчике для инвентаря. Свиньи, лежавшие в хлеву у самой перегородки, где была еле заметная тень, дышали тяжело и время от времени жалобно похрюкивали. Обе собаки растянулись в красноватой пыли под грузовиком, высунув покрытые пылью языки, с которых капала слюна. Отец надвинул шляпу на глаза и присел на корточки. В этой привычной для него позе, видимо способствующей размышлениям и повышающей наблюдательность, он смерил Тома критическим взглядом, посмотрел на его новую, но уже стареющую кепку, на костюм, на новые башмаки.
– Сам на это потратился? – спросил он. – Замучаешься в таком наряде.
– Это мне выдали, – сказал Том. – Перед выходом. – Он снял кепку и посмотрел на нее с восхищением, потом вытер лоб и, лихо надвинув набекрень, потянул за козырек.
Отец заметил:
– Башмаки дали хорошие.
– Да, – согласился Джоуд. – Башмаки хорошие, только по такой жаре в них далеко не уйдешь. – Он присел на корточки рядом с отцом.
Ной медленно проговорил:
– Может, приладим борта, тогда и грузить начнем? Погрузим, может, Эл подойдет, тогда…
– Я умею водить машину, если только за этим дело, – сказал Том. – Я водил грузовик в Мак-Алестере.
– Вот и ладно, – сказал отец и перевел взгляд на дорогу. – Если не ошибаюсь, это он, прохвост, домой тащится. Еле ноги волочит.
Том и проповедник посмотрели в ту сторону, и шкодливый Эл, заметив, что за ним наблюдают, расправил плечи и горделивой походкой зашагал по двору, точно петух, собирающийся закукарекать. Он подошел к ним совсем близко и только тогда узнал Тома. Хвастливая мина сразу исчезла с лица Эла, глаза засветились восторгом и благоговением, и весь его задор как рукой сняло. Ни жесткие брюки-комбинезон, подвернутые снизу на восемь дюймов, чтобы было видно сапоги на высоких каблуках, ни пояс в три дюйма шириной, с медными бляхами, ни даже красные резинки на рукавах синей рубашки и залихватски сдвинутая на ухо широкополая шляпа не могли сравнять его с братом, – потому что его брат убил человека, а этого забыть нельзя. Эл знал, что даже он сам вызывает восхищение среди своих сверстников только потому, что его брат убил человека. Он слышал раз в Саллисо: «Это Эл Джоуд. Его брат уложил одного лопатой».
И теперь, смиренно подходя к брату, Эл увидел, что тот, сверх ожидания, совсем не чванливый. Эл увидел темные хмурые глаза и тюремное спокойствие худого бритого лица, которое привыкло ничем не выдавать тюремщикам своих истинных чувств, не выказывать ни сопротивления, ни рабской покорности. И Эл сразу стал другим. Бессознательно он подделался под брата, и его красивое лицо нахмурилось, плечи слегка сгорбились. Он не помнил, какой Том был раньше.
Том сказал:
– Здравствуй, Эл! Ну и вытянулся – орясина! Я бы тебя не узнал.
Держа руку наготове, на тот случай если Том захочет поздороваться, Эл смущенно улыбнулся. Том протянул ему руку, рука Эла дернулась навстречу. И оба они понравились друг другу.
– Говорят, ты машиной здорово управляешь?
Но Эл сразу почувствовал, что хвастовством брату не угодишь, и ответил:
– Да нет, не очень.
Отец сказал:
– Шляешься все. Без задних ног пришел. Надо отвезти в Саллисо кое-какие вещи на продажу.
Эл взглянул на брата.
– Поедем? – спросил он как можно небрежнее.
– Нет, не могу, – ответил Том. – Надо здесь помочь. Еще будем вместе… в дороге.
Эл старался сдержать себя изо всех сил:
– Ты… ты убежал?.. Из тюрьмы?
– Нет, – ответил Том. – Дал подписку.
– А… – В голосе Эла прозвучало легкое разочарование.
9
В маленьких домишках арендаторы перебирали свое добро, добро своих отцов, добро своих дедов. Ворошили свой скарб, готовясь к путешествию на Запад. Мужчины действовали без всяких сожалений, – ведь вся прошлая жизнь пошла насмарку; но женщины знали, что прошлое еще не раз подаст им свой голос. Мужчины шли в сараи, в чуланы.
Вот плуг, вот борона – помнишь, как сеяли горчицу во время войны? Помнишь, приезжал какой-то, все уговаривал нас разводить каучуковый кустарник – гвай-юлу? Говорил: разбогатеете. Давай-ка сюда вон те инструменты, – как-никак, а пару долларов за них получим. За плуг было заплачено восемнадцать долларов плюс перевозка, – выслано по прейскуранту «Сирз Роу-бак».
Упряжь, двуколки, сеялки, мотыги. Давай их сюда. Все в одну кучу. Грузи на фургон. Свезешь в город. Сколько ни дадут – продавай. Лошадей и фургон тоже продашь. Больше не понадобятся.
Пятьдесят центов за хороший плуг – это мало. Сеялка стоила тридцать восемь долларов. Два доллара мало. Не тащить же назад… Ладно, бери все, забирай и мою злобу в придачу. Бери насос и сбрую. Бери уздечки, хомуты, постромки. Бери красные стеклянные розочки – подвески к налобнику. Были куплены для гнедого мерина. Помнишь, как он поднимал ноги на рыси?
Рухлядь, сваленная посреди двора.
Ручной плуг теперь не продашь. Пойдет на лом, потянет самое большее на пятьдесят центов. Теперь только дисковые плуги да тракторы.
Ладно, забирайте все, что есть, всю рухлядь, и платите пять долларов. Вы покупаете не только эту рухлядь, но и жизнь, которая стала рухлядью. Мало того, в придачу к этому пойдет и моя злоба. Вы покупаете плуг, который подрежет почву под ногами ваших детей, вы покупаете оружие и волю, которые могли бы спасти вас. Нет, не четыре, а пять долларов. Не тащить же мне все назад. Ладно, берите за четыре. Только не забудьте, вы покупаете то, что подрежет почву под ногами ваших детей. Вы не заметите, как это случится. Не успеете заметить. Берите за четыре. Ну а сколько за лошадей и фургон? Смотрите, какие красавцы! Оба гнедые, подобраны под масть, и шаг у них одинаковый, нога в ногу. Натянут постромки – задние ноги и круп напружатся, шагают ровно, ни на секунду не отстанут друг от друга. А по утрам, на солнце, прямо золотые. Поглядывают через загородку, принюхиваются, не идет ли хозяин, уши в струнку, слушают, а челки совсем черные! У меня есть дочка. Любит заплетать им гриву и челку. Заплетет да еще завяжет красной ленточкой. Нравится ей это. А теперь кончено. Забавную историю мог бы я вам рассказать про дочку и вон про того гнедого. Вы бы посмеялись. Левый мерин – восьмилетка, правому – десять, а ведь как дружно сработались, будто близнецы. Теперь смотрите зубы. Ни одного порченого. Легкие глубокие. Копыта ровные, чистые. Сколько? Десять долларов? За пару?.. Да еще тележка?.. О господи! Да я лучше пристрелю их, пойдут собакам на корм. А, берите! Берите их поскорей, мистер! Вы покупаете заодно и маленькую девочку, которая плела лошадям косички на лбу, снимала у себя с головы ленточку и завязывала им косички бантиками; отойдет назад, голову набок, – любуется, потом потрется щекой о мягкие, теплые ноздри. Вы покупаете долгие трудовые годы на палящем солнце, вы покупаете горе, которое не выскажешь никакими словами. Но не забывайте одного, мистер. Вы получите премию за эту рухлядь и за гнедых коней, за моих красавцев; эта премия – комок злобы, которая будет расти и расти в вашем доме и когда-нибудь принесет плоды. Мы могли бы стать вашими спасителями, но вы подсекли нас; наступит день, когда подсекут и вашу жизнь, а нас уже не будет, и на помощь к вам не придет никто.
И арендаторы возвращались домой, засунув руки в карманы, надвинув шляпу на глаза. Некоторые покупали пинту виски и быстро опоражнивали ее, чтобы оглушить себя сразу. Но, выпив, они не смеялись, не пускались в пляс. Они не пели, не пощипывали струны гитар. Они возвращались на свои фермы, засунув руки в карманы, низко опустив голову, вздымая ногами красную пыль.
Может быть, начнем жизнь заново, в новой, богатой стране – в Калифорнии, где растут фрукты. Начнем с самого начала.
Разве мы сможем начать новую жизнь? Жизнь начинает только ребенок. А мы с тобой… у нас все позади. Минутные вспышки гнева, тысячи картин, встающих из прошлого – это мы. Поля, красные поля – это мы; проливные дожди, пыль, засуха – это мы. Нам уже не начать жизнь заново. Злоба, которую мы продали скупщику вместе с рухлядью, – она будет с ним, но не уйдет и от нас. И то, как хозяева велели нам убираться с земли, – это тоже останется с нами; и то, как трактор своротил дом – это останется с нами, останется до самой смерти. В Калифорнию или еще куда-нибудь – мы, как барабанщики на параде, поведем за собой наши обиды, нашу злобу. И настанет день, когда все армии озлобленных пойдут по одному пути. И они будут шагать в ногу, и поступь их будет грозной.
Арендаторы возвращались домой, волоча ноги в красной пыли.
Когда все, что можно продать, было продано – печки и кровати, столы и стулья, маленькие угловые буфеты, лоханки и баки, – скарб все еще оставался; и женщины сидели среди груды вещей, перебирали их, оглядывались назад, в прошлое. Картинки, зеркальце, и вот ваза…
Ты прекрасно знаешь, что можно взять, а что нельзя. Мы будем делать остановки среди полей, – понадобится посуда для стряпни и стирки, матрацы и теплые одеяла, и ведра, и кусок брезента: из него сделаем навес. Вот бидон для керосина. Знаешь, на что пригодится? Смастерим из него печку. Одежда? Бери все, что есть. А ружье?.. Без ружья как без рук. Когда не будет ни башмаков, ни платья, ни еды, ни даже надежды – ружье все-таки останется при нас. Когда дед пришел в эти места – помнишь, рассказывал, – у него только и было с собой что перец, соль и ружье. Больше ничего. Это пойдет. И еще бутылку для воды. Ну, теперь, кажется, полно. Прицеп набит доверху. Ребята поедут в прицепе, бабку усадим на матрац. Инструменты – лопата, пила, гаечный ключ, плоскогубцы. Еще топор. Этот топор служит лет сорок. Видишь, как лезвие стерлось? Не забудь веревки. Остальное? Брось так… или сожги.
Подходили дети.
Если Мэри возьмет куклу, рваную тряпичную куклу, тогда я возьму мой индейский лук. Как я без него буду? И еще палку – она длинная, мне по самую макушку. Вдруг понадобится? Она у меня уже давно, целый месяц или целый год. Как я без нее буду? А какая она, Калифорния?
Женщины сидели среди обреченных на гибель вещей, перебирали их, оглядывались в прошлое. Вот книжка. Отцовская. Отец любил книги. «Странствия пилигрима». Часто читал ее. С его надписью. А вот отцовская трубка – все еще пахнет табаком. А вот картинка – ангел. Я все на нее смотрела перед первыми тремя родами, да что-то не помогло. Как по-твоему, взять эту фарфоровую собачку? Тетя Сэди привезла ее с выставки в Сент-Луисе. Видишь? Так и написано. Да нет, не стоит. Письмо от брата, писал за день до смерти. Шляпа – старомодная, с перьями, никогда ее не носила. Нет, некуда сунуть.
Как же мы будем жить, когда у нас отняли жизнь? Как мы узнаем самих себя, когда у нас отняли прошлое? Нет. Брось. Сожги.
Они сидели, глядя на эти вещи, и старались выжечь их, как клеймо, у себя в памяти. Как же дальше, когда не будешь знать землю за порогом своего дома? Или проснешься среди ночи и знаешь – знаешь, что ивы нет. Разве ты можешь жить без ивы? Нет, не можешь. Ива – это ты. Боль, которая терзала тебя вон на том матраце, – мучительная, нестерпимая боль – это ты.
Опять дети… Если Сэм возьмет индейский лук и длинную палку, тогда мне тоже можно взять две вещи. Тогда я возьму еще пуховую подушку. Это моя подушка.
И вдруг их охватывало беспокойство. Надо поскорее трогаться. Ждать нельзя. Ждать больше нельзя. И они сваливали посреди двора оставшийся скарб и поджигали его. Они стояли и смотрели на огонь, потом с лихорадочной быстротой принимались грузить вещи на машину и уезжали, скрывались в пыли. И пыль долго стояла в воздухе, поднятая перегруженными машинами.






