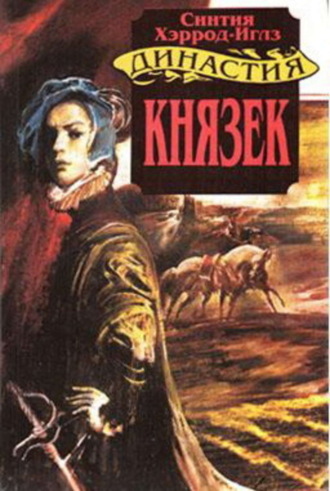
Синтия Хэррод-Иглз
Князек
Мэри уставилась на него как на безумного:
– Позабыть обо всем? Ты потерял рассудок, муж! Нет, ты должен тотчас же, отправиться к матери, сообщить ей все, что знаешь, и потребовать рассказать остальное! Если она решит, что ты уже знаешь обо всем, кроме незначительных деталей – она все скажет.
– Я ни с кем не буду отныне говорить об этом – даже с тобой! Моя приемная мать завещала мне об этом позабыть – именно так мы и должны поступить!
– Должны? Да почему же? С какой это стати?
– Мэри, – Джэн был потрясен, – это последняя воля умирающей! С ней нельзя не считаться!
– Все это бредни папистов! – Мэри щелкнула пальцами. – Да понимаешь ли ты, что поставлено на карту? Понимаешь ли ты что-нибудь? Ты разве не хочешь стать богатым?
– Я достаточно богат. У нас есть Уотермилл-Хаус...
– Нет, он не наш. Это дом твоей матери, и мы живем здесь из милости! Когда-то Уотермилл был частью поместий Морлэндов – и снова может стать!
– Что ты говоришь? – Джэн в ужасе уставился на жену.
– У Пола никого, кроме Артура, не осталось. – Мэри заговорила быстрее. – Но Артур не слишком его интересует. К тому же, жизнь наша в руках Господа, и не ровен час... Кто знает, что может с ним случиться? Но ведь он обожает Николаса и Габриэля – поручусь, он с радостью сделает их наследниками. Ну, а если ты и впрямь первенец Елизаветы...
– Мэри, молчи!
– Думай, Джэн, думай – все останется Николасу: усадьба, все поместья Морлэндов, вся городская собственность... Ведь у Джейн и Иезекии все еще нет детей, и, вероятно, никогда не будет – Шоуз тоже может достаться ему!
– Замолчи, Мэри! – выкрикнул Джэн. – Ты сама не понимаешь, что мелешь! Ты спятила?
Но Мэри вдруг вскочила и встала прямо перед ним – глаза ее расширились и горели злобой и страстью:
– Нет, я в здравом уме – просто устала! Мне надоело быть нищенкой! Тебе-то хорошо – у тебя есть то, что было всю жизнь, но я! Я, Джэн, была королевской дочерью – и должна была бы стать самой богатой наследницей в королевстве – а у меня отняли все! Меня ограбили! Мне не оставили ни пенни – Нанетта оказала мне милость, как когда-то моя мать облагодетельствовала ее! Это милостыня, муж! А теперь я хочу всего лишь навсего вернуть хоть часть того, что принадлежит мне по праву. Так ли уж это дико? Я хочу всего того, что по праву мое, – усадеб, драгоценностей, лошадей... И хочу оставить богатое наследство своим детям – чтобы им не пришлось побираться, как их матери! Скажешь, и это тебе непонятно? Да если бы ты был любящим отцом, то хотел бы в точности того же!
Она замолкла, задохнувшись. Джэн уставился на нее со смешанным чувством жалости и крайнего изумления. Долгое время он молчал, а затем произнес:
– Я ни о чем не знал... не знал о твоих чувствах...
– Зато теперь знаешь. – Она спокойно уселась на прежнее место и принялась за работу. – Теперь единственный человек, кто знает тайну твоего рождения – это твоя названая мать. А она стара и долго не проживет. Ты должен спросить ее, пока еще не поздно. – Она хитро взглянула на мужа. – Тебе никогда не приходило в голову, каково будет, если до самой своей смерти ты так ничего и не будешь знать?
Джэн отвернулся и пошел к дверям – Фэнд тут же насторожилась, вскочила и последовала за хозяином.
– Хорошо, я спрошу ее. А теперь я должен немного погулять в саду. Хочу побыть один.
– Я пошлю за тобой, когда стол будет накрыт. – Мэри невозмутимо рассматривала стежки. Мгновение Джэн глядел на ее склоненную, тщательно причесанную головку, а потом мягко и с сожалением произнес:
– Прости меня, Мэри. – Она не подняла головы, и Джэн вышел, тихонько притворив за собой дверь. И лишь позднее она спросила себя, за что это извинялся он перед ней…
Двор таверны «У Трех Перьев» в деревеньке Фулхэм на время был превращен в подмостки, и множество людей собрались здесь, привлеченные афишами, расклеенными повсюду и гласившими: «Последнее представление! Месть царя Ирода!» Местечко Фулхэм привлекало на летний отдых множество лондонских дворян – а май выдался таким жарким, что народу было пруд пруди. Галерка буквально трещала, да и на дворе яблоку негде было упасть. Самые дешевые места стоили всего пенни, и, пожалуй, их занимали самые взыскательные зрители.
На афише у входа в гостиницу было написано, что пьесу играет «Труппа лорда Говендена», а ниже шли имена ведущих актеров. Перед афишей долго стоял, изучая ее, высокий и крепкий человек в одежде слуги из богатого дома. Но вот послышался звук трубы, возвещающий начало представления. Он поспешил на звук, вошел во двор и, быстро уплатив пенни, занял место.
Позднее, когда представление окончилось и зрители потихоньку разошлись, тот же человек вошел в таверну «У Трех Перьев» и заказал кружку эля. Низкие потолки покрывала копоть, а масляные лампы едва освещали помещение. Здесь было душно и шумно, кто-то бранился, кто-то отпускал сальные шуточки – но сквозь весь этот гам чей-то мелодичный голос выводил красивую мелодию... Тут и там сновали служанки, высоко неся подносы, уставленные кружками эля, – они грациозно двигались, ухитряясь не пролить ни капли. Все девушки были опрятными – в беленьких фартучках и крахмальных чепцах: ведь это было приличное заведение, и если не считать шума, то все выглядело вполне пристойно.
Человек уселся за деревянный стол подальше от света лампы – так, чтобы видеть все и всех, а самому не бросаться в глаза – а когда подошла служанка, заказал пинту эля, тарелку сосисок и гороховый пудинг – пора было отужинать. Когда еду принесли, он занялся ею, не переставая наблюдать за компанией актеров, сидящих как раз напротив него под самой лампой. Если кто-то и возмущал спокойствие в таверне, то именно они – высокий человек приятной наружности и толстый коротышка вовсю развлекались в обществе весьма хорошенькой золотоволосой милашки. На ней было платье, хотя и порядочно вытертое, и не очень чистое, но прежде добротное и богатое – она болтала и флиртовала с мужчинами, кидая на них томные взоры – словом, вела себя как настоящая шлюха, но нельзя было не отдать должное ее тонким и правильным чертам и чудесному мелодичному голосу.
В конце концов внимание актеров привлек мрачный мужчина, безмолвно наблюдающий за ними, – они пошептались, пару раз хихикнули, и женщину бесцеремонно толкнули к незнакомцу. Изящно уперев одну руку в бедро, она грациозно приблизилась и, склонившись над столиком, произнесла:
– Вы ведь нездешний, правда? И выглядите таким одиноким – почему бы вам не угостить меня кружечкой эля? Мы бы славно поболтали!
За спиной у нее раздался грубый хохот. Незнакомец пристально вглядывался в накрашенное лицо. Под слоем грима была заметна нежная кожа. Прелестны были и глаза – сияющие, голубые, золотые локоны изящно падали на плечи... Только посмотрев пьесу, можно было поверить в то, что никакая это не женщина, а самый настоящий мужчина – в афише он был обозначен под именем Вилла Шоу, исполнителя роли королевы Беренис в той самой «Мести царя Ирода».
– О чем бы нам поговорить? – невозмутимо спросил незнакомец.
– Да о чем хотите! – игриво отвечала златовласая красавица. Один из ее спутников отпустил гадкую шуточку. Мэтью – а это был он – выпрямился и пристально посмотрел на Вилла Шоу.
– Не поговорить ли нам о доме, господин Вильям? Или о вашем бедном отце, сердце которого разбито? Стыдитесь, молодой хозяин, стыдитесь – сколько боли причинили вы тем, кто искренне вас любит!
Нежная рука метнулась к белому горлу, голубые глаза потемнели и расширились, неотрывно глядя на Мэтью, лицо которого теперь освещала лампа. Двое актеров, почуя неладное, так резко вскочили, что опрокинули лавку – все вокруг смолкли, ожидая потасовки.
– О, Мэтью, – Вильям нервно облизнул губы, – как ты напугал меня, мой дорогой.
– Как, Вилл, ты знаешь его? – прорычал Джек Фэллоу, подходя сзади и сжимая рукоять кинжала. – Он досаждает тебе'? – Мэтью даже не удостоил Джека взглядом, продолжая глядеть в лицо Вильяма. Вильям жестом успокоил товарища, не желая допускать свары.
– Да, я хорошо знаю его, Джек. Он управляющий в доме моей бабушки Нэн – о ней я вам рассказывал.
– Это та самая, подружка королевы? Да, ты говорил. А чего ему тут надо?
– Я ищу вас вот уже почти год, господин Вильям, – сказал Мэтью. – Моя госпожа потратила уйму денег, чтобы разыскать вас – она догадывалась, куда вы исчезли...
– А мой отец...
– Ваш отец считает вас погибшим и оплакивает вас, – жестко отрезал Мэтью. Вильям на мгновение закрыл глаза. – Он будет так счастлив вновь вас обрести, что непременно все вам простит...
Глаза Вильяма широко раскрылись:
– О, нет, Мэтью, ты не должен ничего ему рассказывать! Ни ему, ни кому другому!
– Как, так вы не собираетесь воротиться? А как же ваш долг перед отцом, перед семьей? Ведь вы наследник поместий Морлэндов!
Рука Джека Фэллоу легла на плечи Вильяма – тот поднял глаза на своего защитника. Джек обнял Вильяма за талию и прижал к себе. Юноша закрыл глаза и томно вздохнул. Мэтью терпеливо созерцал эту сцену.
– Ну, Мэтью, дорогой мой, разве можешь ты представить меня хозяином усадьбы Морлэнд? Да погляди ты на меня! – Вдруг все притворство и кривляние мигом сошло с юного лица – он выглядел таким одиноким и нежным. – Неужели ты сам не видишь, Мэтью, что тот мир не для меня? Я дома только здесь! Здесь мой мир, которому я принадлежу. Нет, дорогой мой, я не вернусь. Видишь сам, это уже невозможно...
– Теперь я ясно это вижу, – медленно проговорил Мэтью. – Но это же смертный грех! Хотя я и понимаю, что одни люди созданы Богом так, а другие – эдак... Но что я скажу госпоже?
– Скажи ей... скажи ей, что я сердечно благодарен ей и очень ее люблю. Милый мой Мэтью, ты и она... – он запнулся, и глаза его вдруг ярко заблестели. – Передай ей, что я счастлив, и что ей лучше обо мне позабыть. Я никогда не вернусь домой. Разве ты не видишь, что я вправду счастлив?
Мэтью перевел взгляд с Вильяма на Джека Фэллоу, потом на Остена Хоби... Напоследок он осмотрел еще раз дымную таверну. Потом сказал:
– Позвольте мне переговорить с вами с глазу на глаз, господин Вильям. Всего пара минут... – Вильям поднял глаза на Джека, который не спускал с Мэтью подозрительного взора, нежно освободился из его объятий и отступил на шаг.
– Но о чем, Мэтью? Все равно тебе меня не переубедить.
– Только вот что, хозяин, – сейчас вы думаете, что вот так оно и будет вечно. Но времена меняются. Если вам понадобится помощь... или деньги, или просто доброе слово – в общем, если надумаете вдруг вернуться домой, то не колеблитесь ни минуты, умоляю. Пошлите только мне весточку – я тотчас же вышлю денег или сам за вами приеду куда и когда угодно. Пообещайте мне, хозяин, – пообещайте, что вы дадите мне знать, если вам понадобится помощь! Вильям стоял ошеломленный – и вдруг крепко обнял Мэтью. Полутемная таверна словно исчезла – он снова был дома, в усадьбе Морлэнд, как в детстве, окруженный любовью и заботой... Мэтью стоило немалых усилий обнять Вильяма – ведь это существо одновременно было и ребенком, и женщиной, и мужчиной...
– Обещаю... – сказал Вильям. – А теперь тебе лучше уйти. Спасибо тебе, Мэтью, за все.
– Тогда прощайте, господин Вильям. – Мэтью еще какое-то время колебался, подумывая, что еще можно сказать, – но, не найдя слов, повернулся и пошел к выходу.
– Благослови тебя Бог, Мэтью, – мягко сказал Вильям. Мэтью обернулся.
– Вы молитесь, хозяин? – Вильям беспомощно и жалко глядел на него.
– О, Мэтью... – он развел руками. Мэтью отрицательно покачал головой.
– Это ничего не значит. Молитесь Пресвятой Деве и Всем Святым – и положитесь всецело на Господа. Ему ведомо то, что от нас сокрыто. Молитесь, хозяин!
– Я буду молиться. Но уходи! Да, обещаю! Мэтью вышел. Вильям проводил его взглядом и обернулся к товарищам. Джек барабанил пальцами по рукояти кинжала.
– Знаешь... а не расскажет ли он твоему отцу? Может, позаботиться о том, чтобы он молчал?
Это потрясло Вильяма:
– О нет, ради Пресвятой Девы! Мэтью никому не скажет ни слова, кроме тети Нэн – а она мудрая женщина! Как бы мне хотелось не причинять всем им боли, но... – Отныне некому и нечего жаловаться, не на что роптать. Мэтью ушел, а он остался здесь, в шумной таверне. Он, Вилл Шоу, из труппы лорда Говендена, самый величайший исполнитель женских ролей – и любовник Джека Фэллоу. И он станет великим актером, как уже стал великим певцом. Он улыбнулся Джеку и обнял его. Да, только здесь его место!
– Пойдемте, дорогие мои, – выпьем этого замечательного вина, а потом я вам спою.
Джек Фэллоу засмеялся, облапил Вилла, словно девушку, и поволок к столику. Там он усадил юношу к себе на колени, а Остен оглушительно потребовал у служанки вина и холодного мяса. Те, кому в жизни недостает любви, утешаются едой и выпивкой…
– Вы были правы, мадам, – сказал Мэтью Нанетте. – Он и вправду сбежал с актерами, и, думаю... уверен, что по собственной доброй воле.
– Да, я догадывалась. Я должна была все понять – ведь видела же я собственными глазами, как он вешался на них...
– Вы не могли знать, что он решится на такое. Не укоряйте себя, мадам.
– И он не вернется? Мэтью покачал головой.
– Он в довольстве? Он счастлив?
– Они теперь называют себя «Труппой лорда Говендена» – после того самого закона о бродягах. Кажется, они на неплохом счету. А он... вполне сыт и хорошо одет. Сказал, что счастлив.
– И что не вернется домой. Мэтью кивнул. Нанетта вздохнула.
– Я на это и не надеялась... Но думала... – мгновение она размышляла, а потом оживилась: – Хорошо, Мэтью. Никто, кроме нас с тобой, не должен об этом знать. Его оплакивают как мертвого – что ж, пусть так все и остается. Если Пол когда-нибудь узнает правду, это будет величайшей жестокостью.
– Я того же мнения, мадам.
– Хорошо, Мэтью. Теперь можешь идти – и спасибо тебе.
Мэтью вышел, а Нанетта погрузилась в раздумья. По старой своей привычке она продолжала стоять – королева обычно не садилась, и придворные следовали ее примеру. Осанка Нанетты оставалась все такой же прямой и гордой, но с каждым днем сохранять ее стоило больших усилий. Жизнь переполняли события, а также горчайшие разочарования и великая ответственность... Теперь к ноше Нанетты прибавилось и бремя тайны Вильяма. Она была словно вьючное животное, к поклаже которого каждый прибавляет малую толику... Но у нее есть и утешение – разве Он не сказал: «Приидите ко мне все нуждающиеся и обремененные»? Она медленно прошла во внутренний покой, где по милости королевы была ее домашняя молельня – там она с видимым трудом преклонила колени, осенила себя крестом и принялась повторять знакомые и успокаивающие сердце слова молитвы... Но сознание ее раздвоилось – одна Нанетта была сосредоточена на молитве, а другая металась в житейской суете, гадая, какие еще неожиданности свалятся на ее голову, покуда Господь не призовет ее к себе…
Глава 14
Зимой 1572 года Нанетта вновь захворала, а в феврале 1573 года, сразу справив день своей шестьдесят пятой годовщины, оставила двор и навсегда возвратилась в Уотермилл. Тяжело было расставаться с королевой и друзьями, многих из которых она знала всю жизнь – ведь кто бы ни пришел к власти, придворные продолжали делать свое дело... Расставаясь с государыней, она плакала. Елизавете исполнилось уже тридцать девять – Нанетта знала ее с самого рождения, и теперь, оставляя придворную службу, подозревала, что больше они никогда не увидятся. Нанетта выглядела такой худенькой и хрупкой, а жизнь при дворе столь утомительна...
– Теперь позаботься о себе, – напутствовала ее королева. – Посмотри: кожа да кости – ешь побольше, близится весна, и ты должна набраться сил.
– Мне будет лучше дома. Я так скучаю по свежему воздуху и чистому небу! – жизнерадостно ответила Нанетта, чувствуя, что едет домой умирать. Но, хотя путешествие и утомило ее, шутка оказалась пророческой: в Уотермилле она почувствовала себя куда лучше и вскоре была в состоянии съесть большую часть из того, что ей подавали. Она заметила также, что между Джэном и Мэри появилась некая натянутость, и гадала, не связано ли это каким-то образом с ее приездом.
После ужина к ней привели детей. Она пришла в восторг от семилетнего Николаса. Он был высокий, сильный мальчик, хорошо учился, а на лице его постоянно присутствовало то же выражение открытости и честности, что в детстве у Джэна. Вообще он походил на отца, хотя и унаследовал карие глаза Мэри. Нанетту поразило, насколько напоминал мальчик Александра... Четырехлетний Габриэль был еще пухленький, и своим курносым носиком и рыжеватыми волосами сильно походил на мать. Болтая с Николасом и забавляясь с детишками, Нанетта краешком глаза ловила многозначительные взгляды, которыми обменивались Джэн и Мэри. Когда детей увели, она потребовала объяснений. Знаком удалив слуг, она сказала:
– Ну, Джэн, выкладывай все начистоту.
– Разве я до сих пор не был с тобой честен, мама?
– Нет, милый, не всегда, – грустно ответила Нанетта. – Сразу, как только я приехала, я заметила, с тобой творится что-то неладное. Что-то тебя волнует, но ты молчишь.
– Я не могу сказать, мама... По крайней мере, не теперь... – ответил Джэн. Мэри открыла было рот, но Джэн перехватил ее взгляд, и она смолчала. Нанетта глядела то на одного, то на другого.
– И все же лучше нам поговорить. Кажется, дело серьезное.
– Не сейчас, мама. Утром. Ты устала.
– Ради Бога, Джэн, давай разом с этим покончим! – нетерпеливо воскликнула Мэри. – Ведь ни один из нас не сможет уснуть!
Джэн вздохнул:
– Ну, хорошо, хорошо.
Нанетта присела на скамью у окна – на место, которое обычно занимала Мэри. Как раз напротив камина, над которым красовался ее портрет, где Мэри выглядела такой самодовольной... Хотя Нанетта и не знала, о чем пойдет разговор, но уверена была, что этого хотела Мэри. Нанетту поразило, что Джэн, ее мальчик, всегда такой сильный, полюбив, вдруг стал мягче воска...
Джэн услал слуг в зал, запер двери покоев и с великим трудом, избегая смотреть Нанетте в глаза, рассказал обо всем, что знал, – и о том, что поведала ему Мэри. Нанетта терпеливо выслушала, не сводя глаз с лица Джэна, лишь единожды взглянув на Мэри, которая сидела на стуле в другом конце комнаты и нервно поигрывала ожерельем.
– Теперь сама видишь, мама, – с усилием выговорил Джэн, отчетливо осознавая, сколь жалки его слова, – ты должна теперь сказать мне всю правду о том, что касается моего рождения.
– Я должна, Джэн? Ты словно чем-то мне угрожаешь...
– О, нет, мама... – начал было Джэн, но Мэри нетерпеливо прервала его:
– Лучше, если ты скажешь ему все сама – ведь иначе он пойдет к Полу и выложит ему все.
Наступила давящая и тягостная пауза – глаза Нанетты горели, словно две синие свечи, но Мэри не отвела взгляда.
– Ох, Мэри, как это дурно! – произнесла, наконец, Нанетта. – Неужели я так плохо тебя воспитала. Неужели и я, и Симон, и отец Филипп сделали тебя такой – наглой, алчной и бессердечной? – Мэри опустила глаза. Лицо ее горело – но, увы, не от стыда... Нанетта печально посмотрела на Джэна.
– Ладно, Джэн. Я терпеливо тебя выслушала – а теперь я и вправду устала и хочу лечь в постель.
– Но...
– Не теперь, Джэнни. Мне нужно подумать. Утром я сообщу тебе о своем решении. Скоро... – она помолчала, потом пожала плечами. – Я буду молиться за тебя. Помолись и ты, сынок.
А ночью, то и дело пробуждаясь – ведь теперь ее сон был старчески чутким, хотя в молодости она тоже особенно не разнеживалась – Нанетта неторопливо продумывала ситуацию. Дело зашло достаточно далеко, и придется открыть Джэну всю правду – иначе Мэри принудит его обратиться к Полу, которому достаточно тяжело и без всего этого... Нельзя позволить мрачным призракам былого терзать его измученную душу. По давней привычке она не могла молиться, лежа в постели. С усилием, стараясь не потревожить Одри, она выбралась из кровати, накинула на себя покрывало – в комнате было довольно прохладно – и опустилась на колени прямо на голые доски пола. Она молилась Господу, Пресвятой Деве – и святой Анне, своему ангелу-хранителю, матери Богородицы – а потом, отчаявшись выразить словами все то, что терзало ее сердце, все повторяла и повторяла «Отче наш» на латыни – языке своего детства... Наконец, озябшая и измученная, она легла в постель и уснула. Утро выдалось ясное и холодное, и после утренней своей совместной молитвы с Симоном она попросила Джэна принести ей теплый плащ и выйти с ней в сад.
– Я хочу побыть с тобой наедине, – сказала она – а в саду нам никто не помешает. И даже ты, Мэри, – прибавила она, увидев, что та собирается тоже надеть плащ. – Это касается только Джэна.
Их взгляды скрестились, словно мечи: Мэри глядела враждебно, но Нанетта пересилила – и молодая женщина покорно отступила. Тепло одетой и подвижной Нанетте было приятно гулять по саду. Какое-то время они бродили молча, просто наслаждаясь свежестью и какой-то прозрачностью, царящей в Божьем мире. А небо было голубое – совсем как глаза Вильяма... Нанетта в сотый раз спрашивала себя, права ли она была, скрыв от Пола правду – может быть, стоило силой заставить Вильяма вернуться под родной кров, теперь, когда никого, кроме Артура, у отца не осталось? На стену опустилась трясогузка и уставилась на них, помахивая хвостиком, – глаза Джэна тут же устремились на пичужку. Нанетта искоса глядела на сына, любуясь его твердым и ясным лицом, губами, готовыми в любой момент улыбнуться, темно-синими глазами с пляшущими в них искорками смеха... О, как хотела бы она охранить его от тревог и зла, сберечь в нем эту радость жизни, присущую ему от рождения! Таким он был и когда она впервые привезла его в Уотермилл в качестве наследника Джеймса... Почему этому пламени суждено всегда угасать? Ах, нет – оно все еще пылает в Джейн. От нее как бы исходил свет – это был свет истинной веры. Она жила словно в райском саду, никогда не покидая его пределов. Нанетта также ни разу не изменила вере отцов, но разница между ней и Джейн состояла в том, что для Нанетты ведомы были хаос и тьма, царящие за стенами райского сада, а Джейн даже стен не видела: для нее Эдем – это и был весь мир...
– Джэн, – наконец заговорила Нанетта, – как ты думаешь, почему я скрывала все от тебя так долго?
– Чтобы защитить эту женщину... мою мать…
– Да, чтобы защитить ее – и тебя тоже. Ты и вправду думаешь, что я продолжала бы молчать, если бы знание могло принести тебе пользу? Для тебя же лучше было ни о чем не знать...
Джэн встретился с ней глазами:
– И все же незнание не может быть лучше знания. Всем нам свойственно любопытство.
– Впрочем, теперь поздно что-либо обсуждать... Я вижу, что должна открыть тебе все. Но я вверяю тебе эту тайну – и ты должен сохранить ее. О, нет, – прибавила она, увидев выражение его лица, – я не потребую от тебя клятвы: не хочу прибавить к твоим грехам еще один. Уверена, ты сам поймешь, что лучше молчать. Ты... или нет: Мэри совершенно права. Елизавета была твоей настоящей матерью.
Они долго молчали. Она чутьем уловила, что хотя Джэн и догадывался, но все же до сих пор не позволял себе до конца в это поверить. Это оказалось для него ударом. Она отчетливо видела, что он вспоминает прошлое и соотносит новость со своими детскими впечатлениями...
– Ее уже много лет нет в живых, – сказал он.
– Теперь ты понимаешь, что защищала я тебя.
– А она... она знала?
– Нет. Возможно, догадывалась – но, по-моему, приказала себе не думать и не вспоминать. Это ведь дело прошлое, а разум наш порой удивительно милосерден... Ни одна душа не знала, куда делся младенец. И никто не ведал, откуда взялся ты. И никому бы не пришло в голову связать эти два события воедино. Пожалуй, лишь...
– Что? – живо спросил Джэн. Нанетта нахмурилась.
– Разве лишь то, что ты внешне сильно напоминал ее. Твоя приемная мать, видимо, не ошиблась – Пол знал о первом ребенке Елизаветы и, верно, временами задумывался... Но, полагаю, что все куда чаще считали тебя плодом моей тайной и греховной страсти – ведь я могла свободно скрыть беременность, надолго отлучаясь из дома ко двору. – Она улыбнулась – Джэн уловил горькую ее иронию...
– Ну хорошо, Елизавета – да упокоит Господь ее душу – была моей матерью. Но кто мой отец?
– Вот от этого позора я всю жизнь и хранила тебя, – сказала Нанетта, а затем спокойным тихим голосом поведала ему все.
Потом они долгое время молча бродили по дорожкам сада. Наконец, Джэн заговорил:
– Значит, Мэри не ошиблась – я Морлэнд.
– Да, Морлэнд – по крови, а не по имени.
– Но и отец мой, и моя мать – оба Морлэнды, и я твой родственник.
– Ты родня всем нам.
Джэн поднял глаза, мучительно пытаясь разобраться в запутанном клубке родственных связей, а потом улыбнулся прежней своей задорной улыбкой:
– Мой дед был твоим дядей – получается, что я тебе нечто вроде кузена?
Нанетта улыбнулась, но сразу же посерьезнела:
– Теперь ты понимаешь, медвежонок, что не можешь претендовать на имущество семьи Морлэнд. Еще раз прошу тебя держать то, что ты узнал, при себе. Не говори ничего Мэри – если ослушаешься, вы будете оба несчастливы! Если только она узнает, что в твоих жилах течет кровь Морлэндов...
– И ее даже больше, чем у самого Пола, – задумчиво прибавил Джэн. Нанетта серьезно поглядела на него.
– Негоже, медвежонок... Не стоит думать об этом. У тебя есть то, что завещано отцом – и будь доволен этим.
– Но если у Пола вовсе не останется наследников... – робко начал Джэн. – Мама, я этого вовсе не желаю, пойми – но так может случиться! У него остался лишь Артур да еще детишки Мэри и Даниэла Беннетта. Разве справедливее будет отдать все маленькому Беннетту, притом младшему – ведь старший никогда не оставит Хар Уоррен – нежели мне, который любит усадьбу Морлэнд, воспитан здесь, и к тому же Морлэнд во всем, кроме имени?
– О, Джэн, оставь эти мысли! Как ты уже сказал, есть Артур – к тому же у Джейн и Иезекии вполне могут появиться дети. И – кто знает – может, Джон еще вернется к отцу? Как бы я хотела, чтобы ты обо всем этом позабыл!
– И я бы хотел обо всем забыть, мама. Но уже слишком поздно. Может быть, всегда было поздно...
Нанетта не ответила. В точности те же мысли посещали ее, когда она лежала ночью без сна в своей опочивальне...
Мэри Перси пробудилась в слезах, содрогаясь и рыдая, судорожно ища подле себя Джона. Он тут же проснулся и обнял ее, прижал ее голову к своему плечу, нежно баюкая и гладя по волосам – так он обычно утешал Томаса, когда малыш падал и ушибался.
– Тихо, моя милая, моя птичка, – все хорошо... Я здесь, рядом... – Когда дрожь понемногу унялась, он нежно спросил: – Опять страшный сон?
– Да, – ответила она, пряча лицо у него на груди.
– Теперь он приходит чаще, правда? Но ведь это всего лишь сон. Он уже прошел.
– Мне снилось, что ты исчез... что я потеряла тебя... и без тебя было так холодно, так пусто...
– Но вот я, здесь, ты же видишь, моя пташка! И ты здесь, в моих объятиях, в тепле и покое... – Джон стал тихонько напевать колыбельную, но тут же понял, что она еще не вполне проснулась, что она по-прежнему во власти кошмара, и слова его для нее ничего не значат. Тогда он чуть запрокинул ее голову и принялся целовать ее. Поначалу она отвечала на поцелуи сонно, словно в беспамятстве, но вскоре его огонь воспламенил кровь в ее жилах. Они читали мысли друг друга – слова были ни к чему. С того самого памятного дня в горах они очень редко расставались, но души их всегда были неразлучны. Хоть она и была горяча и горда, но даже когда они вздорили, то любовь их оставалась неизменной. И лишь порой накатывала эта тоска – и тогда, вот как сейчас, она теснее прижималась к нему, словно хотела не просто быть рядом, а слиться с ним всем существом, стать его частью...
Они отдались нахлынувшей страсти – а потом лежали усталые и счастливые.
– Неужто твой сон так невыносимо страшен? – чуть погодя спросил он. – Мы прежде редко были врозь – разве что по нескольку дней всего. Но когда я выступил под штандартом лорда Перси, а ты с мальчиком осталась в Элнвике...
– О, это другое дело... – ответила она. – Тогда мы все равно были вместе. И я знала, что ты вернешься.
– Ты знала? Ну, а если бы меня убили? – она содрогнулась, и он ощутил это всем своим телом.
– Нет, я знала, что этого не будет. А когда... когда я вижу этот сон... мне кажется, что мы с тобой недостаточно близки – что бы мы ни делали, что бы ни говорили...
– И ты сейчас это чувствуешь?
– Это уходит... но возвращается снова, во сне. Я спрашиваю себя порой... – она не договорила, но Джон и без слов понял все: она терзалась мыслью, что эти сновидения посылает ей Господь, предупреждая, что человеческая любовь, любовь смертных – это совсем не главное... – Я никого никогда не любила, кроме тебя, – наконец сказала она. – А впервые увидев тебя, я почувствовала, что наступил конец, и будто я должна умереть... Я изо всех сил противилась, хотя знала, какова моя судьба. Ведь я была Мэри Перси, я была сама собой – и боялась все это утратить. Ты понимаешь меня?
– Да, – ответил он, понимая ее лишь умом – его самого никогда не посещало это чувство отчаянного одиночества. – Я любил – до встречи с тобой...
– Свою мать, – ответила Мэри. Между ними не осталось никаких тайн за годы, проведенные вместе.
– Да. И она помогла мне подготовиться к настоящей любви.
– Тогда, возможно...
– Что?
– Возможно, земная любовь – это лишь преддверие? Может быть, поэтому все так... – она запнулась, довольно долго подбирала слово и в конце концов сказала невпопад: – ...так грустно...
Он не упрекнул ее, не отшутился – между ними не было места непониманию. Он понимал, что она подразумевала, сказав «грустно» – хотя слово было явно неподходящее. Они были друг для друга источниками величайшей радости, но и в этой радости был всегда привкус какой-то горечи, словно оба они пытались дотянуться до чего-то недосягаемого... Даже в ее красоте и чистоте присутствовала какая-то щемящая нотка – она, словно плененный единорог, с удивлением глядела на золотую цепь вокруг собственной шеи, недоумевая – неужели мое истинное предназначение в этом?
Но подобные мысли посещали их лишь на покое... Настало утро, они пробудились, отстояли утреннюю мессу – и день принял их в свои объятия, закружил в привычном водовороте дел, обязанностей... Ведь они были королем и королевой своей крошечной страны – со всеми вытекающими последствиями. И был еще мальчик... Этим летом Томасу исполнялось пять – и он уже намного перерос своих ровесников. Он был истинным сыном своей матери – с такими же, как у нее, чистыми серыми глазами и светлыми волосами, которые летом выгорали, становясь серебристыми. Но он обещал пойти ростом и силой в отца – были в нем также и отцовская нежность и странная любовь ко всему живому. В свои пять лет он уже свободно мог управиться с любым конем, с любым соколом, с любым псом... Мэри подарила ему коня – двоюродного брата своего Хаулета – мальчик ездил на нем без седла, а порой даже без уздечки: конь, казалось, просто читал его мысли...







