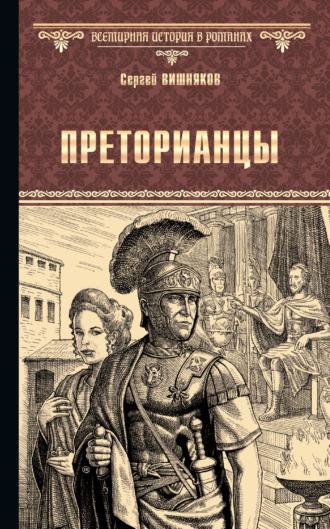
Сергей Вишняков
Преторианцы
Глава пятая
Александр отложил кисть и посмотрел на кратер, который только что закончил расписывать сценами колесничих бегов. Он осторожно повертел его за ручки, придирчиво оглядывая каждую лошадь в упряжке, каждую ось на колесах колесниц. Ему казалось, что возницы недостаточно искусно выписаны, а морды лошадей слишком длинные. Вглядываясь все больше и больше, он пришел в полное раздражение. Работа не нравилась ему. Он видел – в изображенных фигурах нет того изящества, присущего творениям великих греческих вазописцев, а ведь Александр так хорошо изучил их технику! Нет и напряжения, с которым мчатся наперегонки колесницы. Он с силой оттолкнул кратер, испачкав пальцы в непросохшем черном лаке. Сосуд отлетел на противоположную сторону стола, но не упал на пол. Александр крикнул раба. Проходивший рядом с комнатой, переоборудованной в мастерскую, ученый раб Андрокл услышал крик господина и подошел к нему.
– Андрокл, скажи какому-нибудь рабу, пусть принесет мне хиосского вина! – пытаясь оттереть испачканные пальцы, бросил Александр, едва взглянув на старика-грека.
– Прости, господин, но это невозможно.
– Что еще? Ну, сам сходи за ним, если свободен от своих ученых дел.
– Дело не в этом. Император урезал сумму, на которую содержится эта вилла, и прости, господин, но если купить хиосское вино, то что нам подавать к столу, кашу легионеров?
– Как урезал? – недоверчиво буркнул Александр. – Когда?
– Позавчера из дворца пришел раб и сказал, что в этом месяце и в следующем больше денег не будет. Так как вся семья императора живет во дворце, то эта вилла должна жить скромно, ведь кроме тебя, господин, и твоей жены да десятка рабов здесь никого нет.
– Гм! Почему ты раньше мне не сказал?
– Ты же был занят вазами, господин, и просил не беспокоить.
– Правильно, Андрокл, ты поступил верно. Скажи, сколько у нас осталось денег?
– Мы с Диогеном еженедельно подсчитываем расходы, и он говорил вчера, что осталось всего три сотни денариев.
– Благодарю, Андрокл, можешь идти.
Мягкая покорная речь грека немного успокоила Александра. Давно, когда он был совсем юн, Андрокл обучал его греческому языку, математике и философии. Это было в Сирии, где Пертинакс служил наместником. Александр тогда относился к доброму и мудрому Андроклу, как к отцу, хоть тот и был рабом.
Александр окинул взглядом свою мастерскую. В комнате, служившей ранее библиотекой, теперь на гончарном круге создавались сосуды и тут же расписывались. Обжиг предполагался в подсобных помещениях, но до него так ни одна ваза и не дошла.
Переехав в дом Пертинакса, Александр почувствовал себя в нем полновластным хозяином и для собственного удобства перенес библиотеку в другое место, а здесь решил развлекать себя своим прошлым ремеслом. Вернувшись из поездки к Септимию Северу, он понял свою значимость для императора и потому ждал, что Пертинакс будет постоянно его вызывать для важных государственных поручений, а в свободное время он займется вазописью, что называется «для души». Но в прошлом, когда изготовление и роспись ваз было средством его существования, Александр создавал поистине шедевры, полностью отдаваясь любимому делу, его талант позволял осуществлять самые сложные сцены, наполненные художественным драматизмом и виртуозностью техники. Теперь, когда уже не стало необходимости бороться за выживание, он решил не спеша создавать то, что давно хотел. Не избитые веками сюжеты, которые интересны всем, но не ему, а реализовать свою собственную фантазию. Попивая вино, неспешно поедая устриц, Александр смотрел, как нанятые им гончары создают по его приказу вазы, а потом сам подходил к ним, чтобы расписать. Он думал, как будет интересно рассказывать о своем увлечении в окружении императора и, скорее всего, его амфоры станут раскупать за баснословные деньги. Возможно, не из-за высокого художественного вкуса заказчиков, а чтобы угодить человеку императора и потом пользоваться его благосклонностью. Но шли дни, а император больше не вызывал к себе Александра, роспись выходила вялой, очень обыденной, а собственные сюжеты казались творцу глупыми и бессмысленными. Александр прогнал гончаров и сам сел за гончарный круг, надеясь, что если он сам станет работать над вазой от начала и до конца, то вдохновение обязательно посетит его. Но и это не помогло. Берясь за кисть, он больше думал не о тонкостях рисунка, а о том, что император забыл его, и клял себя за то, что оставил когда-то службу у Пертинакса, стремясь стяжать славу знаменитого вазописца. Будь он всегда при Пертинаксе, наверное, император взял бы его во дворец, а не бросил прозябать на вилле в Каринах. Ливия упрекала мужа за его честолюбие и напоминала, что совсем недавно они бедствовали, живя в бедняцкой Субуре, а теперь ему мало шикарной жизни в квартале богачей. Она не могла понять такой быстрой перемены Александра.
Все, что он создал, казалось Александру отвратительным. Он уничтожал свои амфоры, кратеры, лекифы в тот же день, как заканчивал роспись, после придирчивого их осмотра. Он знал свои возможности и понимал – сейчас он никак не может создать даже что-то близкое к шедевру. Ливия, тоже научившаяся разбираться в тонкости вазописи, молча соглашалась с мужем. Она видела слабость его работ и тоже не понимала, что происходит.
Александр вернулся к простым, заезженным сюжетам, надеясь в них обрести вдохновение, но опять потерпел неудачу. Глядя на свою работу, он отмечал – стоимость ее самая дешевая. Но тут же забывал об этом, справляясь у рабов, нет ли сообщений с Палатина. Александр задавал этот вопрос несколько раз за день и каждый раз, получая отрицательный ответ, раздражался все больше и больше. Ему казалось, что кто-то уже занял предназначенное судьбой именно ему место рядом с императором. Любой другой, не задумываясь, побежал бы во дворец, чтобы лишний раз напомнить о себе. Но Александр был горд и не мог преступить через себя. Именно поэтому он и мучился.
Когда Андрокл сказал об урезании денег на содержание виллы, для Александра это стало еще одним доказательством того, что Пертинаксу он больше не нужен и все честолюбивые мечты следует похоронить. Расстроенный и злой, он пошел к Ливии, чтобы выговориться.
Ливия полулежала на подушках в их спальне и кормила фруктами обезьянку, которую держала на руках рабыня, следящая, чтобы животное не убежало и не нагадило на ложе госпожи. Александр отослал рабыню, брезгливо глянул на обезьяну и начал с того, что возмутился присутствием этой твари в доме. Ливия сразу поняла, что ее муж – комок нервов.
Она не могла привыкнуть к нему такому, ведь раньше он был ласковый, нежный, говорил о любви к ней и о своей любимой работе. Возвращение из Паннонии его полностью переменило. Ливия выслушала мужа молча, сочувственно глядя на него и все время гладила его по руке. А когда поток слов иссяк, она прижала его голову к груди и стала гладить по волосам.
– Я вижу, ты совсем извелся. Ты говоришь, что хочешь быть полезным императору, Риму, чтобы все тебя знали и уважали, но разве это не простое тщеславие, милый? Мы были очень счастливы в нашем худом доме в Субуре, а теперь, когда есть все, что только можно пожелать, мы почти не чувствуем друг друга: если мы и говорим, то не о нас, а о политике, о чужих, далеких от нас людях. Может, все эти сенаторы, всадники, должности, деньги, почет не стоят и одной твоей самой замечательной вазы, что ты раньше создавал. В конце концов они все исчезнут, а ваза останется.
– Это было раньше, сейчас я уже ничего не могу! – сокрушенно произнес Александр, отвлеченно глядя на расписной потолок. – Да и что вазы? Они так же хрупки, как и человеческая жизнь. Знаешь, еще недавно я думал – искусство прекраснее всего на свете. Я и сейчас этого не отрицаю. Но как же здорово, когда ты можешь и создать что-то великое и при этом сидеть неподалеку от императорской ложи в Большом цирке, есть павлиньи язычки при первой же прихоти, помочь какому-нибудь всаднику в получении должности, лишь только замолвив за него слово императору, ссужать деньгами разоряющихся сенаторов, зная, что они, конечно, не смогут отдать долг, но сознавать, что их род, ведущий начало от первых царей, задолжал вольноотпущеннику. Вот она, настоящая жизнь! Не прозябание, а истинное наслаждение! И она не так уж и недостижима. Ведь мы с тобой переселились же из проклятой Субуры в квартал богачей! Осталось переселиться на Палатин! Я честолюбив? Почему бы и нет! Император сам сын вольноотпущенника! Чем я хуже? Почему мне нельзя хотеть стоять рядом с властелином мира?
Ливию больно уколола фраза мужа про «проклятую Субуру». Да, квартал бедняцкий, с дурной славой, но там стоял дом, где она родилась, где жили ее родители, память о них она благоговейно чтит. И Александр раньше никогда так не говорил, наоборот, старался улучшить их простую жизнь, сам раскрашивал стены дома. Но то было раньше. Теперь это время безвозвратно утекло, Александр не хочет его вспоминать, а она, сейчас живя в роскоши, постоянно вспоминает о нем.
– Может, тебе самому пойти к императору, например, чтобы узнать, правда ли мы теперь стеснены в средствах и не выделит ли нам Пертинакс побольше денег? Сейчас, зимой, их требуется немало.
– Ливия, я никогда не просил денег, не стану делать это и сейчас.
– Но ведь это же непрактично, любимый! Мы зависим от императора, мы простые люди, не патриции, нам ли задирать нос? Ведь у богачей всегда стоит толпа клиентов, и среди этих клиентов есть много людей и значительнее нас. А ты вольноотпущенник Пертинакса, считай, член его семьи, почему ты упрямишься?
– Да, я почти никто. Ты ведь знаешь, моя мать – гречанка из Эфеса, дочь торговца, отец – простой ауксиларий из венделиков, за свою службу не получивший даже клочка земли. Но ты пойми… Я не знаю, какие подобрать слова, чтобы тебе объяснить. Уже много сотен лет весь обозримый мир принадлежит римлянам, но когда-то это было не так. Отец умер, едва мне только шесть лет исполнилось. Но я запомнил, как он, умирая от болезни, постоянно рассказывал мне о предках – свободных людях, живших у Данубия и вынужденных после долгой борьбы покориться несокрушимой силе римлян. Он хотел, чтобы я помнил о них. А моя мать из греков Эфеса, чьи предки переселились туда из Фив, разгромленных Филиппом Македонским. Мои пращуры-греки так любили свободу, что всегда боролись против любой тирании. Когда понтийский царь Митридат велел вырезать всех римлян, что жили на его земле, мой предок участвовал в той страшной резне в Эфесе, о которой до сих пор помнят на Востоке, да я уверен и здесь тоже. Во мне кровь свободных по духу людей – греков и венделиков. Я горжусь этой кровью. После смерти отца моя мать, не имевшая средств к существованию, была вынуждена отдать меня в рабство, чтоб я просто не умер с голоду. И потому я с малолетства воспитывался в доме Пертинакса и на самом деле чувствовал себя частью его семьи, но никогда не забывал, кто я. Мать умерла вскоре после отца. Пертинакс, когда я подрос, освободил меня, я бесконечно ему благодарен, что теперь я не раб. И несмотря на это мне сложно просить его о милости. Я не просил ее раньше, не попрошу и теперь. Я охотно приму любой дар, но не могу просить, чего бы то ни было.
– Милый мой, храбрый и честный Александр! – улыбаясь, произнесла Ливия, целуя его. – Я рада, что ты такой. Многим римлянам не мешало бы поучиться у тебя гордости. При Коммоде даже потомки древних родов не брезговали унижаться пред этим безумцем, лишь бы что-то получить от него. Но мы не сможем содержать виллу на такие скудные средства. А император потом взыщет с нас, что здесь возникнет полная разруха. А ведь она неизбежна, потому как денег хватит только на пищу и больше уже ни на что. Наверное, закралась какая-то ошибка, мы просто обязаны подробно расписать императору расходы на эту виллу. Андрокл и Диоген все напишут, ничего не приукрашивая, а я отнесу эти расчеты на Палатин. Заодно и расскажу Пертинаксу о посещении Дидия Юлиана, наверняка это покажется ему важным и он снова обратит на нас свое внимание.
– Да, подозрительные происки этого сенатора – хороший предлог, чтобы вновь обрести расположение императора! – с надеждой произнес Александр.
В комнату вошел раб и протянул Александру навощенную табличку, принесенную императорским рабом с Палатина. В ней император звал Александра и его жену к себе на ужин.
– Я же говорил, он вспомнит обо мне! Когда долго о чем-то думаешь и желаешь, боги всегда помогают! – воскликнул Александр, охваченный радостью и, бросив табличку, в порыве ликования обнял жену и расцеловал ее.
Ливия смотрела на него с бесконечной любовью и радовалась за мужа. Но к этим чувствам примешивалась и печаль, что между ними теперь навсегда стоит император.
В зале Юпитера – самом большом и шикарном триклинии Рима, за столом возлежали три человека. Император Публий Гельвий Пертинакс, сенатор Тиберий Клавдий Помпеян, ритор и грамматик Валериан Гемелл. Огромный стол, созданный из пентелийского мрамора, с ножками в виде сидячих крылатых грифонов, за которым могло поместиться до сотни человек, сейчас резко контрастировал с окружающей роскошью палатинского дворца необычной скромностью своего убранства. Салат из артишоков, мясо птиц, тушенное с грибами и сыром, форель, один кувшин вина. И пусть все это было подано на посуде из золота, все равно такого простого ужина давно не видели статуи громовержца Юпитера, стоявшие в нишах триклиния.
Сотрапезники императора, как и он сам, давно шагнули за порог шестидесяти лет, в потоках их густых бород серебряными ручейками извивалась седина. Голоса их, как и движения, неспешные, плавные указывали на некую общую слабость, являвшуюся признаком болезненной старости.
Валериан был немного младше императора, в молодости они вместе обучались у грамматика Гая Сульпиция Апполинария, но если со временем Пертинакс оставил преподавание и поступил на службу в легион, то Валериан Гемелл, закончив обучение, всю жизнь работал грамматиком. Сначала, как и у Пертинакса, это дело не приносило ни значительного дохода, ни известности, но Валериан, не обладая более никакими талантами, четко шел к намеченной цели – стать успешным человеком, чей труд оплачивается достойно. Но лишь к сорока годам он этого добился. Жена его умерла при родах, как и ребенок, и, оставшись вдовцом он снова жениться не стал. К пятидесяти годам заработав хорошую сумму, он, по примеру своего любимого императора Адриана, отправился в путешествия по римским провинциям, взяв с собой одну любимую рабыню и любимого юношу-раба. Слава о нем как об известном столичном грамматике помогала Валериану безбедно жить, периодически подрабатывая, многие годы. За десять лет он исколесил почти всю огромную империю, не отважившись побывать лишь в дикой Британии. И молодая рабыня умерла от лихорадки, и любимый раб попал под повозку в Киликии и умер, а Валериану все превратности пути оказались нипочем. В отличие от Адриана, чья скорбь по погибшему Антиною была бесконечна, Валериан легко переносил утраты и так же легко относился к смерти.
Когда Пертинакс был проконсулом Африки, его посетил Валериан. Встретившись спустя много лет, бывшие товарищи поняли, что за это время ни один из них нисколько не изменился. Пертинакс остался таким же целеустремленным, скупым, обстоятельным, честным, а Валериан веселым, немного лукавым и в то же время самым лучшим собеседником по любым вопросам – будь то философский трактат, стихи или кулинарные рецепты и пошлые шутки. Полгода прожил Валериан в Африке, почти ежедневно составляя проконсулу компанию на завтраке, обеде и ужине, а потом ушел из Утики, где находилась ставка Пертинакса, в Карфаген, Тапс, Гадрумет, и больше не вернулся обратно.
Старые товарищи встретились уже в Риме, когда Пертинакс был городским префектом. Он не забыл увлекательные беседы с Валерианом и периодически приглашал его на литературные диспуты к себе домой. Грамматик всегда с радостью приходил. На старости лет, практически отказавшись от удовольствий близости и хорошей еды, он сохранил лишь одну страсть – к доброй и долгой беседе о чем бы то ни было.
Вторым собеседником императора был сенатор Тиберий Клавдий Помпеян. Будучи старше Пертинакса на два года, он выглядел совсем стариком, его много лет мучили всевозможные болезни. Служа Риму на дунайской границе, он рано заработал себе суставную боль, однако всегда крепился и старался не замечать периодически обострявшийся недуг. Хоть и родился он в сирийской Антиохии и принадлежал к сословию всадников, но по своему благородству, честности, храбрости и при этом удивительной скромности Клавдий Помпеян напоминал легендарных римлян царских времен и ранней республики, истинных слуг отечества, для которых служение Риму являлось самой большой наградой и единственным счастьем в жизни. Во время тяжелых войн Марка Аврелия с племенами варваров Помпеян вошел в число ближайших соратников императора, более того – стал его другом. В то время он заметил подающего надежды центуриона Публия Гельвия Пертинакса и благодаря его протекции Пертинакс стал кавалерийским трибуном. Возглавляя вспомогательную кавалерию, будущий император участвовал в отражении маркоманов и квадов, прорвавшихся через границу и дошедших до Северной Италии. Когда их разгромили, Пертинакс со своими конными отрядами много дней гнал беглецов до Паннонии, где их окончательно уничтожили. Марк Аврелий заметил трибуна Пертинакса и, дав ему звание претора, повелел возглавить I Вспомогательный легион.
Пертинакс глубоко уважал и любил Клавдия Помпеяна, считая его наряду с Марком Аврелием самым достойным человеком из всех современников. Когда умер соправитель Марка Аврелия, Луций Вер, то император велел Помпеяну жениться на вдове покойного – Луцилле. Она была дочерью Марка Аврелия, и он, следуя традиции усыновления будущих императоров, предложил Помпеяну принять титул цезаря и стать наследником в обход Коммода – родного сына Аврелия.
Но Помпеян отказался, даже видя, что Коммод растет злым, избалованным ребенком и несмотря на уговоры императора, Пертинакса и других друзей и соратников. Он не считал себя достойным трона. Делом всей его жизни было защищать Рим на поле боя. Когда Марк Аврелий умер и молодой Коммод, сам не имея ни способностей, ни желания вести войну, решил закончить многолетний кровавый конфликт с маркоманами, Клавдий Помпеян долго упрашивал императора довести войну до победного конца, но тщетно.
Шло время, Коммод все больше отдалялся от управления империей, погружаясь в разврат, гладиаторские бои и предоставляя распоряжаться всем своим фаворитам. Помпеян, некогда бывший дважды консулом Рима и возглавлявший штаб одной из крупнейших армий в империи, жил на покое, за городом, изредка наведываясь в сенат, и все надеялся, что его услуги еще понадобятся. Но когда его жена Луцилла приняла участие в заговоре против своего брата Коммода, он ее не поддержал, искренне веря, что нельзя нарушать волю богов, контролировавших естественный ход событий. Заговор раскрыли, несчастную Луциллу сослали на остров Капри и вскоре убили по приказу венценосного брата. Помпеян остался жив, ведь он не злоумышлял против Коммода, но страдал безмерно. Он любил Луциллу, но осуждал ее действия, возмущался жестоким императором, которого все равно чтил как сына дорогого друга Марка Аврелия. Прибавившиеся болезни добавили Клавдию Помпеяну дополнительных проблем и разочарований в собственной жизни. Последние годы у него появились отеки на ногах, одышка и часто беспокоила боль в груди. Он понимал, что уже никогда не будет нужен императору и из-за немощи, и из-за поведения жены Луциллы. Острое чувство упущенных возможностей преследовало старика.
В конце декабря Помпеян вернулся в Рим, его пригласил Коммод на празднование Нового года и своего очередного консулата. Но жизнь внесла свои коррективы. Неожиданно для всех жителей Рима 1 января было объявлено, что император Коммод умер от апоплексического удара, и новым властелином империи преторианская гвардия, взявшая инициативу в свои руки, объявила Пертинакса. Старые товарищи много лет не виделись, и 1 января в храме Юпитера Капитолийского их встреча прошла при таких удивительных обстоятельствах. Пертинакс, окруженный преторианцами, заискивающими сенаторами и многотысячной толпой, появился пред дряхлым стариком Помпеяном во всем своем великолепии. Бывший знаменитый полководец Клавдий Помпеян искренне радовался за своего былого выдвиженца. Но радость старика омрачалась смертью Коммода. Каким бы плохим человеком и плохим императором ни был Коммод, Помпеян чтил его, как верный и самый преданный слуга. С того момента, как он узнал о нелепой смерти молодого императора, для него в одночасье умер тот славный мир молодости, наполненный битвами и победами, память о котором питала Помпеяна в годы забвения. Вместе с сыном, императором Коммодом, ушел навсегда и мир его отца Марка Аврелия, наступали совсем другие времена. И хоть трон занял человек из его славного прошлого, Помпеян особенно резко, возможно, даже больше, чем кто-либо во всей империи, ощутил боль утраты от смерти Коммода. Но, может быть, это была просто боль в груди, возникавшая всегда, когда он сильно волновался.
Когда Пертинакс услышал, как Помпеян сбивчиво поздравлял его, постоянно отвлекаясь на скорбь по Коммоду, сердце его переполнили благодарность и любовь к своему бывшему покровителю. Ведь не будь его протекции Марку Аврелию, позволившей сыну вольноотпущенника выдвинуться на ведущие государственные и военные посты в империи, стоял бы Пертинакс на Капитолийском холме, готовясь принести императорские жертвы Юпитеру? Пертинакса тронула искренность старческих слез Помпеяна по поводу смерти человека, убившего его жену, сделавшего много зла Риму. В этих скупых слезах были вся честь и благородство римлянина. Поддавшись порыву чувств, Пертинакс обнял Помпеяна и, зная, что все равно тот откажется, как и много лет назад, прилюдно предложил ему стать императором. Эти слова явились для старого полководца той наградой, которую он так давно ждал. Он, конечно, отказался, но теперь знал, что его помнят и чтят и, возможно, он еще будет нужен.
После 1 января Пертинакс уже третий раз приглашал Клавдия Помпеяна во дворец, размышлял с ним о реформах, которые необходимо провести. Закончив обсуждения дел, в которых Помпеян понимал немало, а в некоторых вопросах был более сведущ, нежели император, два старых товарища пошли в триклиний, чтобы поесть и поболтать о прошлом. Помпеян ел мало и по старой легионной привычке часто обходился самой простой пищей, и потому экономия, которой всегда придерживался Пертинакс, а после того как стал императором, стал ее ярым проповедником, резко сократив расходы двора, его не волновала.
Из тушенного мяса с сыром и грибами Помпеян выбирал мясо и совсем немного сыра, не притрагиваясь к грибам. Грибы быстро вызывали у него тяжесть в желудке, а этого он тщательно избегал, так как помимо болей в сердце и суставах у него периодически ныло вверху живота. Из-за проблем с желудком вино он пил, так сильно разбавляя его водой, что от перебродившего винограда оставался только слабый цвет, а вкуса почти и не чувствовалось.
Помпеян медленно пережевывал мясо, обдумывая слова Валериана Гемелла. Глубоко посаженные глаза старого полководца, казалось, блеснули. Он потер свои впалые щеки, почесал седые волосы над ухом.
– Вот ты говоришь, Валериан, что смерть Коммода от апоплексического удара прямо накануне Нового года – это чудо, символ того, что все плохое осталось в прошлом, и новый год начался с нового императора. Но я возражу тебе. Это не чудо, а лишь совпадение, обусловленное закономерностью. Я хоть и не жил много лет в Риме, но знаю, как пил и развлекался сын моего дорогого Аврелия. Он давно мог умереть давно от таких попоек. А я вот расскажу о настоящем чуде. Ты, я вижу, не особенно чтишь богов, Валериан, а напрасно. В их власти вся наша жизнь.
– Дело каждого свободного человека – верить во что он хочет или не верить! – вставил Валериан. – Так о каком чуде идет речь? О воскресении христианского бога?
– Нет, конечно нет. Публий, – обратился Помпеян к Пертинаксу, по старой дружеской привычке. – Ты об этом знаешь, но не мешало бы и тебе вспомнить наши великие победы.
– Готов поспорить, уж не о чуде ли с дождем и градом ты хочешь рассказать? – усмехнулся Пертинакс.
– Да, именно о нем. Так вот, Валериан. Было это во времена войн Марка Аврелия с германскими варварами. Двенадцатый Молниеносный легион, преторианцы, сингулярии, вспомогательные войска – словом, большой силой мы выступили против дикарей-квадов, перешедших Данубий. Император лично вел легионеров, я тоже был в его штабе. Летняя жара стояла невыносимая. Доспехи легионеров раскалились, всех донимала жажда. Варвары вышли из леса и окружили нас. Римляне встали в оборонительный круг – сингулярии императора в центре вместе со штабом Марка Аврелия. Много часов квады непрерывно обстреливали нас из луков, закидывали дротиками, пытались прорвать строй сокрушительными атаками копьеносцев. Но все было для них тщетно. Легионеры стояли непоколебимой стеной. Но стояли из последних сил, буквально изжариваясь в доспехах и изнывая от жажды. Многие страдали от ран, истекали кровью, но держали строй. Марк Аврелий оставался спокоен. Он верил в легионеров. Я хотел возглавить атаку когорты преторианской гвардии, чтобы отвлечь квадов, и дать возможность всему остальному войску начать отход, но император не разрешил. Он не хотел терять меня и свою верную гвардию, ведь из той атаки мы точно бы не вернулись. Но что же оставалось делать? Палящее солнце словно встало на сторону квадов, чтобы уничтожить нас. И тут я обратил внимание, что египтянин Арнуфий, уже несколько лет находившийся при Марке Аврелии в качестве какого-то мага, лекаря, философа, да и кто знает еще кого, короче говоря, он начал громко молиться на разных языках разным богам – нашим, восточным, еще каким-то. Молился как-то чудно – то пел, то шептал, то издавал гортанные звуки. Особенно часто он обращался к своему египетскому богу воздуха и ветра – Шу, так он сам потом говорил. И молитвы Арнуфия были услышаны. Невесть откуда появились облака, потом вдруг грянул ливень. Легионеры приветствовали спасительный дождь громкими криками и с радостью пили, набирая воду в свои шлемы. Квады атаковали нас, но мы их отбросили. К дождю прибавился град! Градины величиной с грецкий орех!
– Мне рассказывали, что с ладонь ребенка! – вставил Пертинакс.
– Нет, это преувеличение! С орех, не больше. Но и такого града хватило, чтобы квады, шедшие в бой без доспехов, сильно пострадали от него и спрятались в лес. Представьте себе – словно десятки тысяч пращников одновременно ударили с неба! Легионеры благодаря броне стояли спокойно. В придачу к граду боги послали нам на помощь молнии. Если вначале египетский Шу нам поспособствовал, то теперь наш славный Юпитер вступился за своих сынов. Молнии били часто. Лес, в котором укрылись квады, загорелся, и они побежали к нам, чтобы не сгореть заживо. Варвары вместе с их вождем Ариогезом сложили перед легионом оружие, добровольно сдавшись в плен. Они поняли, сколь могущественны боги на римской земле. Вот это чудо, Валериан!
– Ну, уж так и чудо! – возразил грамматик. – Я много путешествовал и наблюдал за природой. Как ты говоришь, Клавдий, в тот день стояла невыносимая жара? Но ведь именно такая жара и является предвестником сильного дождя и бури. Я сам не раз попадал в такое же положение, как Двенадцатый легион, и уверяю тебя, вымокнув до нитки, тоже иной раз подумывал: а не Юпитер ли, или как там? – Шу, буйствует на небе, но разум у меня всегда брал свое.
– Нет у тебя разума, слова одни! – буркнул Клавдий Помпеян, впрочем, без всякой злобы.
Он спокойно относился к людям разных вер и даже к тем, кто не верил в богов. Как друг Марка Аврелия он рассуждал философски – каждому свое.
– Такие же любители поговорить, как ты, Валериан, – продолжал Помпеян хмуро, – распускают слухи, будто бы Коммода убили.
– Но это точно не я! – парировал грамматик. – К чему мне говорить то, что лично для меня совершенно безразлично?
– Странный ты человек. Не интересуешься современностью, только книги тебе подавай. Что ты там принес сегодня почитать, Марциала? А ведь дело нешуточное – вдруг, окажется, что на самом деле это вовсе и не слухи, а императора убили? Молва уточняет, что задушили. Значит, надо убийц найти и казнить!
– «Тот, кто без смерти достиг славы – вот этот по мне» – написал Марциал, – процитировал Валериан. – И еще его же слова: «Тот не по мне, кто легко добывает кровью известность».
– Что? – буркнул Клавдий Помпеян.
– Я хочу сказать, Марциал для меня олицетворяет истинное величие, он достиг своим творчеством славы и почета при жизни, а Коммод что? Кто его добрым словом помянет? Уверен, что, когда пройдет лет сто, наши потомки будут вспоминать о нем как о злобном гладиаторе на троне, любившем наряжаться в Геркулеса и умершем так кстати накануне Нового года. Никто и не вспомнит, что он сын Марка Аврелия.
Пертинакс понял, что пора вмешаться в диалог. И дело даже не в том, что Клавдий Помпеян и Валериан Гемелл могли поссориться. Помпеян стал говорить об очень неприятном – о слухах про убийство Коммода. Кто распространял их по Риму, пока было неизвестно. Официальную версию – апоплексический удар – приняли в сенате и так и объявили народу. Но в последние дни даже до Пертинакса дошли эти слухи. Их следовало немедленно прекратить. Как бы истина не вышла наружу. Пертинаксу не хотелось, чтобы его имя смешали с кровавым убийством предыдущего императора. Он мог быть спокоен за Марцию – она точно не сболтнет лишнего, ведь это совсем не в ее интересах. Марция дала Коммоду яд и потому, если что, ей и первой отвечать. Атлет Нарцисс, задушивший императора, тоже не стал бы бахвалиться – преторианцы несут о Коммоде добрую память и могут быстро с ним расправиться. Эклект, управляющий Вектилианской виллой? Зачем ему это нужно? Он теперь управляет палатинским дворцом. Только Эмилий Лет мог! Назло Пертинаксу, не желавшему выплачивать преторианцам оставшуюся сумму. Сам он, естественно, ни при чем. Лет лишь предложил на трон кандидатуру префекта Рима – человека, близкого к Коммоду. А Эклект и Нарцисс пришли ночью в преторианские казармы и сообщили префекту претория о смерти императора. Их легко можно объявить убийцами, действующими в интересах кого угодно – хоть своих, хоть Пертинакса или кого-то еще. Слухи найдут благодатную почву. Народ, обложенный налогами, вряд ли возмутится фактом убийства, но в сенате, безусловно, найдутся те, кто, воспользовавшись этим обстоятельством прихода Пертинакса к власти, станет интриговать против него.



