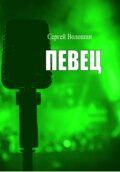Сергей Петрович Волошин
Душка
– Не знаю. Согласен, наверное, – неуверенно протянул Евгений, слегка заикнувшись на букве «н». – Мне лишь бы дочке понравилось.
– Хм… А давайте сделаем так. Сейчас мы с вами расстаёмся, а как ваш инструмент будет готов, вы приедете за ним ко мне вдвоём. А уж я постараюсь организовать встречу вашего сложного ребёнка и передачу ей скрипки Льва Горшкова так, чтобы для неё это было и приятно, и незабываемо. Она ведь никогда не бывала в гитарной мастерской, не видела этой тайной лаборатории, где зарождаются звуки музыки.
– В принципе, вариант. Главное Оленьку уговорить, понимаете? Там ведь и бабушка не в ту сторону стимулирует её мозги, и своих тараканов – хоть отбавляй, да и самому бы в себе разобраться и со своей девушкой тоже…
– Если могу быть чем-то полезен– звоните. И уж извините, что не стал побуждать вас к глубоким откровениям на сложные семейные темы. Вижу, что вам тяжело и без них, а я вовсе не психолог, порой себе не в состоянии дать дельный совет.
Анатолий Иванович набросил на плечи свой чёрный рабочий халат, показывая клиенту, что разговор подошёл к концу и пора прощаться. Евгений это сразу понял, поставил пустую кружку на край верстака, пожал руку мастеру и достал из портмоне новую пятитысячную купюру.
– Это аванс, Анатолий Иванович.
– Мы о цене, вроде бы, не договаривались. Не бросайтесь деньгами.
– Отказа я не приму, – твёрдым звонким голосом сказал Евгений. – Тем более, что вы взяли на себя обязательство провести куда более сложную работу, чем ремонт скрипки – это сделать небольшой праздник для Оленьки. Она ведь разучилась ценить хорошее. Весь мир для неё – плохой. Постарайтесь, пожалуйста, Анатолий Иванович. Кстати, я тоже плохой психолог, ещё хуже детектив, но кое-что заметил. Судя по обстановке на кухне, в мастерской, по вашим помятым брюкам, недомытой кружке где-то и у вас не всё в порядке в отношениях с женщиной. Угадал?
Мастер скромно, словно виновато, улыбнулся, растянув на всю ширину худого лица свои густые поседевшие усы. «Почти», – подумал Анатолий, но не ответил. Чаепитие завершилось умиротворяющим и многообещающим консенсусом. Этого на сегодня было достаточно.
IV
Когда Анатолий Иванович был просто Толей, он ещё не знал, что станет музыкальным мастером. Вряд ли кто-то в беззаботном детстве может предсказать, куда заведёт его кривая многообещающей жизни. Кто-то мечтал быть космонавтом, кто-то дипломатом, писателем или футболистом, а Толя мечтал стать гитаристом в каком-нибудь известном на всю страну вокально-инструментальном ансамбле. Или создать свой ансамбль, такой, как его любимые «Поющие гитары» или неподражаемые «Песняры», только ещё лучше, чтобы солидно, а не однотипно по-советски прозвучать на всю великую страну. И обязательно прославиться там, на таинственном и неизвестном Западе.
Что такое Запад, Толя представлял себе смутно, в основном делал выводы из разговоров взрослых. Отец Иван Анатольевич читал газеты, иногда делал это вслух, и часто повторял: «Брешут наши, что у них там, на Западе всё загнивает. Загнивало бы, давно подняли по всему миру революции и установили социалистический строй. Как у нас, или хотя бы как у тех венгров и югославов. А так ведь глянь, живут, сволочи, и неплохо живут. Песни поют, в футбол хорошо играют, да и в хоккей тоже умеют. Шведов, вот, мы разбили под Полтавой, а на чемпионате мира еле-еле победу в финале выдрали: шесть – четыре. Нет, брешут наши, не договаривают нам что-то, за свои должности и своё благополучие беспокоятся, чтоб рабочий класс не возбухал».
Толина мама Надежда Григорьевна недовольно, но с улыбкой на губах сдвигала тонкие брови и всё повторяла: «Хватит, Вань, тебе за эту политику. Что тебя не устраивает в нашей жизни, рабочий класс? Дом есть, работа есть, зарплата неплохая, на море отдыхаем, в больницах лечимся. Вон, Толик в школе советской учится, между прочим, у нас на работе как-то директор стройтреста сказал, что советская школа, высшая в том числе, выпускает лучших специалистов. Это даже у них там, в Америке признают».
«Да я не за то, это и так понятно, – обижаясь, ворчал отец, – я за то, что врут наши. Вот, что обидно. Не врали бы, глядишь, и народ бы по-другому как-то всё понимал, что там, на Западе, конечно, наши враги, но не такие уж они и дураки со своим капитализмом. Не такой уж их капитализм и негодный строй. Я не за то, что нам надо ломать то, что построили и что ещё настроим, в смысле социализм, а за то, что честными надо быть хотя бы перед собой. Тут ведь, глянь, что творится. На твоей же стройке ваш директор берёт вас в рабочее время дачу ему ремонтировать. Было? Было! И платит вам какие-то копейки, а иногда и на халяву, за паёк и трудодень пахали. Было? Было! А это элемент капитализма, эксплуатация человека человеком. Или скрипку мы Толику брали, помнишь? Госцена – восемнадцать рублей, а мы отдали двадцать восемь – червонец сверху продавщице из универмага. Ох, и морда у неё страшная, как ядерная война! Кому мы отдали этот червонец? Стране? Нет, отдали в карман скрытой капиталистке. И куда ни глянь – везде так – в ЖЭКе дай трояк, в кассе аэрофлота – дай рябчик, пива возьмёшь – хоть на копейку, но обязательно обсчитают. Ездят, вон, по улице эти коробейники, металлолом собирают за свистульки свои. А осенью картошку с машин продают. Кому идёт доход, государству? Нет, коробейникам. Костюмы наши мы где шьём? На дому у Вальки-модистки. А шапки нутряные кто в городе шьёт? Петька Суриков, двоечником был у нас в школе, зато в цеховики вырвался. И государство ему ни по чём. Так вот я и говорю, что капитализма и у нас хватает, только признаться в этом никто не спешит. Зато грязью брызгают на тех, кто не скрывает, что у них там, на Западе, барыги – это нормально и законно. Тогда и у нас надо это дело узаконить, раз не могут победить. Государство должно быть честным, государство должно мочь, иначе и не государство это вовсе, а какая-то базарная торговля».
Мама глубоко вздыхала, укоряла отца, что он крамольные вещи говорит при сыне, и всегда пыталась сменить тему разговора. Отец Толика трудился старшим мастером в местной типографии. Именно поэтому в доме всегда было полно газет. Отец их брал бесплатно, приносил домой, раздавал соседям, чтоб читали, повышали свой политический кругозор, а потом обсуждали на вечерних уличных посиделках с картами, лото или домино.
Толику тоже не нравились отцовские политические философствования, потому что в школе учителя говорили о Стране Советов совершенно другое. Толик любил отца, но авторитет учителей в этом вопросе был выше. Ментальный компас уже тогда указывал мальчишке собственные русла детских исканий. Толик любил свою страну, но, читая книги иностранных писателей, понимал, что у других народов есть не меньше поводов любить свои родины, их историю и культуру, гордиться ими, так же, как делают это наши люди.
Но больше всего хотелось Толику, чтобы жители капиталистических стран могли позавидовать ему в том, что он живёт в лучшей стране мира Советском Союзе и играет в знаменитом на всю планету ансамбле. Мама говорила, что для этого нужно много учиться. Толик же считал, что главное здесь везение, трудолюбие и любовь к Родине. И любить её надо не так, как папа, на работе – правофланговый член общества, а на кухне черноротый его критик. Сам ведь и извивается на все бока, как змей коварный, а во вранье всю страну обвиняет.
Толик часто вспоминал тот день, когда родители решили отдать его на учёбу в музыкальную школу. Как только выяснилось, что преподавателя гитары в школе нет, хотели поехать в другую, но завуч задержала Ивана Анатольевич и предложила выучить сына игре на скрипке. Сказала, что это тоже струнный инструмент, освоив который, в дальнейшем мальчику не составит труда самостоятельно обучиться игре на семиструнной гитаре.
«Почему на семиструнной? Я хочу на шестиструнке, как Джон Леннон», – протестовал Толя.
«Потому что в нашей стране, тем более в нашем городе, очень сложно найти самоучитель игры на шестиструнной гитаре, мальчик. И в музыкальном салоне у нас есть преподаватели только по семиструнке, а не Джон Ленин», – неумолимо отвечала завуч – полная рыжеволосая женщина с мужским прокуренным голосом.
Так Толю отдали в ничем не примечательную музшколу, где он достаточно быстро освоил и игру на скрипке, и гитару. Всё таки шестиструнную. Которую вскоре и очень кстати подарил ему сосед, дядя Лёня, несколько лет служивший прапорщиком в Германской демократической республике. Оттуда он и привёз слегка поцарапанную сослуживцами «Музиму резонату» с приятно пахнущим палисандровым грифом и нейлоновыми струнами. Таких струн Толя не видел ни у кого ни в городе, ни в области, хотя к тому времени уже успел покататься в составе ансамбля скрипачей по различным концертам, конкурсам и фестивалям.
Эх, славный был в ансамбле скрипач, Боря Васильев. Такие надежды подавал, преподаватели в нём души не чаяли. А вот оно как вышло через годы: главный городской бандит и «дирижёр» бригады рэкетиров – выпускник именно этой музыкальной школы. И непонятно – стыдиться тут следует или салюты пускать.
Когда наступило время поступать в институт, Толю, конечно же, уговаривали ехать в консерваторию. Куда же ещё? Родители Иван Анатольевич и Надежда Григорьевна не могли допустить, чтобы годы учёбы, образование и талант пропали даром. Но Толик совершенно не представлял себя мысленно в роли какого-нибудь скрипача симфонического оркестра. Да и где-то в тайных закоулках души бродили другие сомнения – о том, сможет ли потянуть учёбу в консерватории. Родители наивно предполагали, а располагал Толик.
Перед самыми выпускными экзаменами в школу приехали представители одного из городских профессионально-технических училищ. Вербовали старшеклассников идти учиться на токарей, слесарей и фрезеровщиков. Сначала в актовом зале школы выступила комсомольская агитбригада, а затем всех пригласили на улицу, где перед школьниками, их родителями и жителями близко расположенных многоэтажек выступила рок-группа, составленная из учащихся ПТУ.
На высокие ступени вышли пятеро длинноволосых худощавых молодых людей в пёстрых, узко ушитых рубашках. Подключили на зависть толпе двухъярусный немецкий орган фирмы «Вермона» с настоящим модулятором в виде кривого металлического рычага под клавиатурой. Болгарские электрогитары при солнечном свете играли яркими красками и звучали насыщенными аккордами. Когда парни запели «Богатырскую нашу силу» – любимую песню Толи, он не выдержал, выскочил на площадку, снял пиджак и, широко размахивая им над головой, под громкий смех собравшихся зрителей и зевак, во весь свой юношеский голос проорал:
«Эх, да надобно жить красиво,
Эх, да надо нам жить раздольно!
Богатырская наша сила —
Сила духа и сила воли!»
На следующий день в кабинете директора школы Толика стыдили целым преподавательским коллективом: сам директор, Павел Дмитриевич, классная руководительница Вера Филипповна, завуч по воспитательной работе Анна Петровна и ещё несколько абсолютно безразличных к происходящему преподавателей, приглашённых для создания внушительной массовки.
«Может, ты Анатолий, действительно хочешь жить красиво? – вёл пристрастный допрос Павел Дмитриевич. – Да и раздольно жить мы все, здесь собравшиеся, никак тебе запретить не можем. Молодым везде у нас дорога, так ведь поётся в одной известной песне? Силы, как мы видим, у тебя много, духа тоже, так тебе не в консерваторию идти поступать надо, а в как раз в это самое ПТУ, к тем битлам, под которых ты вчера так весело плясал. Станешь фрезеровщиком, будешь свою силу в заводском цехе показывать, чугунные болванки точить. Хорошая перспектива для советского человека. Родители, думаю, будут рады. Правильно, товарищи?»
Собравшиеся дружно закивали головами, сильнее всех, тихо протягивая «да-а-а», старались Вера Филипповна и Анна Петровна. Когда вышли из кабинета директора, они вдвоём подозвали Толю и попросили не принимать близко к сердцу состоявшийся разговор.
Но было поздно. Толик решил идти туда, куда ему предложил директор. Не потому, что не хотел в консерваторию, просто показалось, что навредить самому себе из принципа «назло бабушке отморожу уши» – это мужской поступок. И уже в сентябре в рок-группе известного ПТУ появился новый гитарист – лохматый, голосистый, в расклешённых брюках, а главное – мечтающий покорять мировые сцены.
V
Заблудившейся телегой по великой стране катилась горбачёвская перестройка. Молодая учительница математики Елена Владимировна, тогда ещё просто Лена, в жизни руководителя бригады фрезеровщиков механического цеха завода «Электромаш» Анатолия Ивановича появилась с одной стороны неожиданно, но с другой – знакомство было до неприличия банальным – в ресторане. «Электромаш» шефствовал над школой микрорайона, куда устроилась после института Лена. Анатолий на тот момент играл в заводском ВИА при профсоюзном комитете. Однажды директор предприятия распорядился организовать шефский концерт художественной самодеятельности для учебного заведения.
«Согласно новым веяниям партии», – многозначительно пробубнил директор на аппаратном совещании с руководителями подразделений.
В школу приехали народный хор завода, вокальный ансамбль ветеранов, танцевальный коллектив, несколько доморощенных артистов разговорного жанра, пара бездарных местных графоманов и гордость трудового коллектива – рок-группа «Ветер странствий». Актовый зал был заполнен до отказа – администрация, учителя, обслуживающий персонал, школьники, гости, шефы, работники партийной и комсомольской организаций.
После концерта принимающая сторона организовала в столовой традиционное дружеское чаепитие для талантливых и важных гостей. Чай присутствовал на столах ровно до того момента, как казённо отчеканившие заученные речи представители администраций завода и школы, а также прочие почётные товарищи покинули заведение, отправившись подвести итоги мероприятия в популярный ресторан «Кристалл». Тут же кто-то из народного хора к всеобщему одобрению занёс в зал столовой ящик азербайджанского вина «Агдам».
«А как же сухой закон?» – визгливо воскликнула сидевшая в гордом одиночестве престарелая преподавательница музыки с покосившимся шиньоном на голове.
«Извините, но сухого не было, только креплёный», – с громким гигиканием ответил хорист, вызвав бурные аплодисменты собравшихся коллективов школы и шефов.
В центре женского внимания были всё же не убелённые сединами и золоченные зубными протезами мужчины из народного хора, а молодые и весьма привлекательные музыканты из ВИА. Учительницы, те, которые из незамужних, хитро искря улыбками, весь вечер сжигали их взглядами, заблаговременно разделив между собой будущую «добычу». Оставалось только узнать, кто из музыкантов холост.
Первой рискнула раскрыть эту тайну слегка захмелевшая от густого «Агдама» обычно молчунья – Елена Владимировна: «А что так скромничают музыканты, уж не заждались ли их в такой прекрасный вечер красивые и ревнивые жёны? А то могли бы тоже в ресторан, не одному же начальству танцы танцевать, да и кабаков у нас в городе, вроде бы, и без «Кристалла» хватает».
Неженатым оказался только самый младший в ансамбле – Анатолий, он и поддержал манившее приятным времяпровождением предложение. В ресторане «Орбита» он оказался меж двух дам – вместе с Леной на переднее сиденье заказанного такси прыгнула её подруга – учительница физики однокурсница Анастасия Валериевна.
«Ты чего, Настя? А твой кавалер где, или не выбрала из широких рядов шефов?», – пока ехали, недовольно спрашивала Лена.
«Там же, где и твой, – заигрывающе скосив взор на Анатолия, отвечала Настя. – И вообще я танцевать хочу. Имею я право или нет? Кстати, кавалер у нас сегодня платежеспособный?»
Анатолий понял, что платить в ресторане ему придётся за троих. А там – как знать, возможно, кто-то из девушек, которые обе и сразу очень понравились, раньше выйдет из создающегося романтического треугольника. Во всяком случае, он надеялся, что именно так всё само собой и рассосётся.
Знающие люди говорят, что Бог или некие высшие потусторонние и непостижимые умом человека силы посылают мужчине его противоположность. Для жизненного воспитания или перевоспитания, чтобы по итогам грядущих неизбежных переживаний да прегрешений и судить потом душу мужика судом, равного которому на всей планете Земля нет. Мечтает парень о невесте-красавице, получает хроменькую и болезненную – либо сразу, из любви да собственной жалости, либо через годы, которые не берегут девичью красоту и здоровье. Хочет мужчина женщину тихую, обязательно получит в жёны неугомонную говорунью.
Лена по молодости была противоположностью Анатолия. Он разговорчивый, она скупая на слова, он трудолюбивый и, а она с ленцой. Постельные темпераменты только сходились. Тем и перетянула на свою сторону от шумной и настырной Настюхи. И хотя долго потом пересекались на перекрестках судьбы жизненные линии Анатолия Ивановича и Анастасии Валериевны (однажды, чуть не клюнул будущий гитарный мастер на волшебные чары школьной физички), но Елена Владимировна оказалась ему и душевно ближе, и умом. Да и беда на них свалилась общая, а беда, как известно издревле, роднит людей.
Сталось это так. Уже когда были Лена и Анатолий в законном браке, зачастила в их дом назвавшаяся кумой Настя. Закрутила черноглазая колдунья в своём бездонном омуте чужого мужа, да так увлекла, что захотелось ему отрезать всю прошлую жизнь, просто взять и забыть, начисто стереть и в бытии, и в памяти, словно не было ничего. И рвануть в сладкую, танцующую свежими красками, неизвестность, в которой и начать всё с нуля.
Мучились все – и сам Анатолий от внезапно нахлынувших любовных чувств, и Елена – от игольчатой ревности и душной неизвестности, и Анастасия Валерьевна – то от неразделённого, но такого близкого счастья, то от стыда перед лучшей подругой, негодующими родными и судачащими коллегами. Неподъёмным бременем давил на её тонкие плечи груз греха возможной разлучницы, разум делился на части от осознания всей катастрофичности соткавшейся ситуации, да сердцу, как говорят, не прикажешь.
Ушла из школы, навсегда покинула её, и ринулась туда, где все в те годы искали возможности, – в торговлю, на рынок. Но не за лишней копейкой, а за сочувствием людским, где и народ попроще, и за тем, чтоб закопать болящие бороны любви своей бестолковой. Да не помогало и это. Запал в душу Толик, так затравил, что порой выходила бессонными ночами Настя к косо сшитому рукаву реки, смотрела в чёрную водную глубь и чаяла сродниться с бурным потоком, навек отдав ему и и молодость свою, и любовь несостоявшуюся. Но тут заболел первенец Анатолия и Елены – Володя. Крепко заболел.
Родился он слабеньким, ручки нежные, ножки тонкие, лицо бледно-синюшного цвета. Всё младенчество колыхала его невидимая сила, да так сильно, что порой сознание терял в силках болей и страха. Сначала врачи не могли поставить точный диагноз, лечили сразу от всего, что только подбрасывали на их консилиумы лечебные протоколы и докторская интуиция. А потом сказали, что у Володи врождённый порок сердца, дожить до совершеннолетия – один шанс на сто. Увы, этот шанс достался какому-то другому ребёнку. А Володю похоронили пятилетним.
Через год в семье Анатолия и Елены появилась на свет Анечка. Родители очень боялись, что и у дочери есть какое-то скрытое врождённое заболевание. Но Аня росла здоровой и жизнерадостной девочкой, любимицей всей семьи – мамы, папы, двух бабушек и дедушки Ивана Анатольевича.
К тому времени Анатолий Иванович поменял уже несколько заводов. Распалась Страна Советов, порвались протянутые между министерствами и предприятия связи, заводы стали сокращаться и разоряться один за другим, а за жизненным горизонтом не виднелось никаких добрых перемен. В это время часто припоминал сын состарившемуся Ивану Анатольевичу его разглагольствования о капитализме.
«Вот, батя, твой капитализм к чему приводит. Хотели – получите, распишитесь. Только не правды, свободы и порядка, а разруху, бандитизм и нищету во всей красе, – бурчал Анатолий. – В хоккей, говорил, они играют… Вот, помнишь был у них хоккейный клуб «Квебек Нордикс»? Помнишь. А «Виннипег Джетс»? Да-да, те самые, что против сборной Союза играли. Были, да сплыли, нет теперь больше этих команд. Такой он, капитализм. Всё сжирает ради чьих-то прибылей. И санаторий твой, где ты лёгкие и спину лечил, всё! Нет санатория, только рожки, ножки, да обшарпанные серп и молот на фасаде».
Распался и очередной музыкальный коллектив, в котором играл Анатолий. Не получилось у него создать ансамбль юношеской мечты. Кто-то уехал из города в поисках высокооплачиваемой работы, кто-то вместе со своими талантами и навыками тонул в спиртном. Чтобы раздобыть денег для семьи, решил Анатолий продать свои гитары, а их было целых четыре – две электрических, две акустических, фирменных. Покупатели нашлись быстро, но оказались людьми непростыми, грамотными, требовательными, с запросами.
«Инструмент ваш в целом неплохой, но состояние его оставляет желать лучшего, перепродать его нереально. Если отдадите за половину назначенной цены, то я заберу», – так сказал самый первый явившийся покупатель, скупщик бывших в употреблении вещей. Второго покупателя не устроило положение гитарного грифа: «Он стоит у вас как-то косо, как вы вообще на ней могли играть?» Третий обратил внимание на «неродной» верхний порожек, который Анатолий действительно вытачивал на фрезерном станке сам.
«Гриф косой? Порожек неродной? За половину цены? Да как бы ни так!», – возмутился Анатолий и отнёс свои гитары на завод, где проконсультировавшись со столярами, электронщиками и малярами и задержавшись после нескольких рабочих смен, привёл их в идеальный порядок. Покупатели остались довольны, но главное, что работу мастера оценили коллеги. В цех к Анатолию они стали приносить свои неисправные инструменты: «Шабашку тебе доставили. Сделаешь сыну моему?».
Когда в кладовой фрезерного участка уже негде было складировать ремонтируемые гитары, скрипки и разные мандолины, Анатолий стал брать работу на дом. Так в гараже дома и организовалась мастерская. А когда по заводу прошла очередная волна сокращения штатов, держаться за рабочее место и производственный стаж уже не оставалось никакого смысла.
Работы хватало с головой. Платили клиенты не много, но на хлеб, масло и конфеты для Анечки зарабатывать получалось. Довольной была и Елена Владимировна – муж всегда дома, дочь под присмотром, не надо ждать сроков выплаты аванса и зарплаты мужа, всегда живая копейка в кошельке.
И вообще – никогда не видела Лена своего мужа на рабочем месте. Заводы все – за высокими бетонными заборами, со строгими проходными и пропускными системами. Не пройти, ни заехать постороннему человеку, чтобы хоть одним глазком взглянуть. А тут работает Анатолий за столярным верстаком – весь подтянутый, сосредоточенный, с инструментами и станками управляется легко и уверенно. Одно удовольствие наблюдать за работой своего любимого мужчины.
И гитары-скрипки-балалайки из-под рук Анатолия выходили как новенькие – ровные, блестящие, звучные, приятно пахнущие свежими лаками. Забирают люди такие инструменты, и все, как один, благодарят за работу мастера, но и жене за его золотые руки «спасибо» перепадает. Кому неприятно будет? За такое и во второй раз влюбиться в собственного мужа не грешно.
А когда выросла дочка Аня, уехав в Москву учиться, после выйдя замуж за своего сокурсника, то и вовсе прикипела Елена Владимировна к Анатолию Ивановичу всей широтой своей женской любящей души. И даже недостатки характера мужа стали с годами казаться преимуществами. Говорливый? Так и послушать есть что. Считай, политинформацию без телевизора и сети Интернет проведёт, пока на кухне суп хлебает. В свою очередь и Анатолий видел в жене и свою силу, и вдохновение, и утеху, и счастье мужское. Ненасытно хлебал глазами её верную нежность и упоением благодарил сияющую твердь небес за льющийся в сердце водопад любви.
VI
Когда погибла мама Оленьки – Татьяна, многие в городе обвиняли в смерти её мужа – предпринимателя Евгения Борисовича. В электронной версии одной из местных газет незадачливый репортёр буквально так и написал: «…Основная версия гибели женщины – самоубийство, мотивом которого могла стать измена мужа…».
У нас ведь как? Если газета написала, то так оно и есть. И никто не обращает внимания, что это только версия – то ли следователя, то ли самого репортёра, а, может, и вовсе прохожих зевак; и что измена Евгения всего лишь могла стать мотивом самоубийства. А могла и не стать.
Впрочем, кого волнуют такие детали? Главное зажечь интригу, а там как масть разноцветная ляжет. Пусть обвинённый людской молвой предприниматель Евгений Борисович Васильев отдувается, тем более, что многие в городе его недолюбливали из-за старых делишек отца в суровые девяностые годы двадцатого столетия.
«Яблоко от яблоньки недалеко укатилось. Тот людей без суда и следствия казнил, земля ему стекловатой, и этот мажор туда же», – судачили люди.
Но мало кто из них мог и хотел бы понять самого Евгения, потерявшего отца в шестилетнем возрасте, и фактически без каких-либо протеже и чьего-то влияния построившего свою внешне благополучную жизнь. Самое ценное из материального мира, что досталось Евгению от отца Бориса,– это квартира в центре города, небольшая загородная дачка из двух комнат и та самая скрипка без душки, много лет пролежавшая среди вывезенных из квартиры старых ненужных пожитков на пыльном чердаке.
Несмотря на прилипшее неудобоваримое сравнение, Евгений не был похож на отца. Борис Михайлович Васильев выделялся крепкой мускулатурой, высоким ростом, круглым розовым лицом с глубоким длинным шрамом, перерезающем подбородок поперёк – последствие детских уличных драк. Евгений Борисович пошёл в мать, волосы, в отличие от отца, чёрные, лицо узкое, скуластое, роста среднего, бицепсов на руках не было. Разве характер достался волевой. С бурным негодованием всегда говорил матери: «Почему они все меня сравнивают с отцом? Ну, почему?».