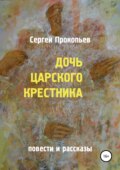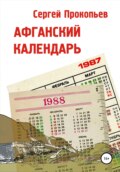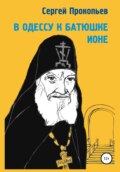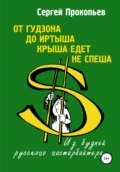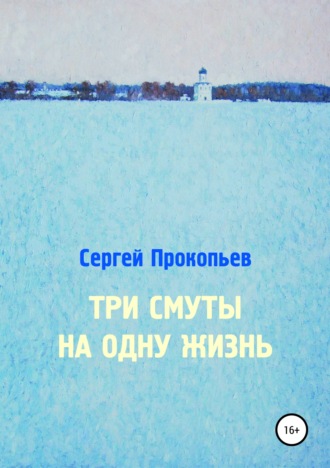
Сергей Николаевич Прокопьев
Три смуты на одну жизнь
Казахстан
22 февраля 1947 года мы прибыли на станцию Шамонаиха. Мама за пятьсот рублей нанял подводу, сама не ездила – возница ждал на станции. В этот день маме исполнился шестьдесят один год. Какая это была радостная встреча, одиннадцать лет не виделись с мамой, с февраля тридцать шестого, с того самого судебного дня, когда дали мне пять лет лагерей. И вот с мужем и тремя детьми я у мамочки.
К нашему приезду мама купила два больших чувала пшеницы. Мои дети страшно обрадовались такому богатству. Прекрасно понимали, что такое хлеб в доме. А сколько мама зарабатывала шитьём. Много, очень много мама нам помогала. Большое ей спасибо, Царствие ей небесное. В 1948 году родился Коля. Хорошо мы жили в Казахстане. Дети получили высшее образование, сыновья учились в Ленинграде, дочери в Семипалатинске, мы с мужем работали бухгалтерами в колхозе.
Автор о третьей смуте в жизни героини
В самом начале нашего рассказа, если помнит читатель, разговор шёл о семидесятипятилетнем юбилее героини. На том торжестве Эльфрида Германовна, оглядываясь на прошлое, сказала, что было в её жизни две смуты, никому не пожелает ни одной из них: теряла родственников, несла скорби, да, слава Богу, это уже история. В конце концов всё наладилось, её старости любой позавидует – дети в люди вышли, все живы-здоровы, внуки большие, правнуки есть, можно умирать спокойно!
Со всех сторон, конечно, понеслось, как это умирать, живи да нас радуй!
Пройдёт не так уж много времени, и моя героиня горестно подумает, вспоминая вечер юбилея: после него бы и упокоиться навсегда. Поняла, вопреки ожиданиям, жизнь не будет заключена в красивые рамки «райского» детства и старости «на зависть». Сказки со счастливым окончанием не получится. Исполняя просьбу детей и внуков написать о прожитом, дойдёт до переезда в 1947-м в Казахстан и поставит точку фразой: «На этом заканчиваю свой рассказ. Может, кто-либо из детей или внуков продолжит его. В связи с затянувшейся смутой в нашей стране, их повествование тоже, наверное, будет грустным».
Полные пессимизма строчки лягут на бумаге через десять лет после юбилея, случится это не в Казахстане, не в Серебрянске, а в небольшом городке на берегу Волги.
Уже через несколько месяцев после юбилея, в декабре 1986-го, нехорошо похолодеет в животе: в Алма-Ате произойдёт невиданное для Советского Союза – вспыхнет многотысячный митинг, с разгоном демонстрантов, убитыми и ранеными. Разные доходили слухи до Серебрянска (в газетах почти ничего не писали), кто говорил про сотни убитых, кто, мол, всего ничего, а студентов, молодёжь использовали втёмную баи, рвущиеся к власти. Они через своих людей подстрекали толпу, дескать, сколько можно казахами из Москвы рулить, дайте нам свободу и самостоятельность. Сердце много повидавшей женщины заныло в нехорошем предчувствии – в Гражданскую войну тоже о свободе кричали все, кому не лень. И махновцы, и красные, и белые – были за свободу. При этом убивали, убивали, убивали…
Перестройка переросла в новую смуту. Серебрянский завод неорганических производств, работавший на оборонку Советского Союза и кормивший город, начал пробуксовывать, а потом и вовсе, как говорил зять: ни в дугу, ни в Красную армию. Зять был начальником цеха, цех остановил работу, зарплату платить перестали. И месяц, и второй, и полгода… Дочь работала терапевтом в поликлинике, получать стала смешные деньги, которые постоянно падали в цене. Хорошо, пациенты по восточным обычаям одаривали доктора продуктами.
Сыновья жили в России, старший Александр – кандидат наук, конструктор, как-то приехал в отпуск и разоткровенничался. По жизни молчун, а тут прорвало: «Мама, во власть на разных уровнях рвутся дилетанты, воры и предатели! Прислали к нам на опытный завод нового директора. Старого убрали, дескать, он из красных директоров. Новый вместо «кабели» говорит «кабеля», вместо «отверстие» у него может выскочить «дырка». Зато слывёт успешным менеджером. Кого только не отправляют учиться за рубеж менеджменту, а делают из них предателей. Зачем западу конкуренты? Англичане как поступали в своих колониях. Всячески ублажали местную верхушку, при этом детям царьков и баев предоставляли возможность учиться англосаксонскому разуму в Лондоне. Те возвращались в колонии английскими марионетками и входили в правительства, законодательные органы. Нашу промышленность, сельское хозяйство, науку губят такие вот «кабеля». Неумехи, подлецы и воры, а чаще всё это в одном флаконе».
Хаос XX века продолжался. Снова всё рухнуло, как в ту неправдоподобно далёкую Гражданскую войну. Заводы «задули свои печи», стало холодно, голодно и беспросветно. Беспросветно в прямом и переносном смысле – начались регулярные перебои с электричеством. Не было, как в Гражданскую, махновцев, красных и белых, да нагрянули другие беды. В семнадцатом родители и все члены семьи в одночасье стали изгоями как представители класса угнетателей-эксплуататоров. На этот раз в одночасье она с семьёй дочери оказались в другой стране. Эльфрида Германовна решила перебираться в Россию. Пусть там тоже не сахар… В принципе, ей немке-пенсионерке всё равно где жить, её песня спета, но дочь русской записана, зять тоже не казах… Принялась уговаривать зятя и дочь на переезд в Россию. Её предки-меннониты не один раз покидали обжитые места в ответ на притеснения со стороны государства, всё бросали и уезжали за тысячи километров. Меннонитская кровь Эльфриды Германовны подсказывала, надо ехать в Россию.
Осуществить план реэмиграции помог сын Александр, он тоже сорвался с места, перебрался из Питера в городок под Казанью. Директор, говоривший «кабеля», предприятие обанкротил, ему и не надо было знать, где дырка, а где отверстие, где кабели, а где кабеля, мыслил другими категориями. Уезжать в Германию с руин своего завода Александр не захотел. По паспорту был немцем, отлично знал немецкий, мог бы подсуетиться и организовать отъезд, не захотел. Объяснял: «Мама, здесь я – уважаемый человек, ценный кадр, в Дойчланд буду вторым сортом». Институтские друзья позвали в Татарию, где была работа по специальности. Александр взрослую дочь оставил в Питере, сам с женой переехал. После этого Александр озадачился сестру с матерью перетащить из Казахстана, помог приобрести им жильё. Четырёхкомнатную квартиру в Серебрянске продали за бесценок, только и смогли купить «полуторку» в Татарии, да и то добавлять пришлось.
Недолго Александр работал на новом месте, всего два года, а потом сгорел – онкология. Не зря говорят: все болезни от нервов. Никто не назвал точную причину возникновения рака, но стрессы, которыми смута, не скупясь, наградила Александра, не могли не сыграть свою паскудную роль.
Дочь Эльвира осталась на Байконуре, городе наполовину русском, наполовину казахском. Изрядно победовала там в переходный период, но уезжать не захотела.
Младший сын Николай переживал перманентную смуту в Омске. Был он, как и Александр, технарём, также работал на оборонку, его предприятие не оказалось радостным исключением на общем фоне, тоже захирело. Сначала перебивался случайными заработками, потом устроился рабочим в гостиницу, имелся выбор: столяром идти или электриком. В электричестве Александр был профессионалом, а столярничал в свободное время – дома всю мебель сам смастерил. В электрики не захотел: «Они вечно баклуши бьют, с тоски помереть можно». Подался в столяры. Гостиница большая, без работы сидеть не приходилось.
Внучку Леночку угораздило выйти замуж за турка. Эльфрида Германовна давно перестала чему-либо удивляться, этот факт восприняла болезненно: её чудная Леночка и какой-то Салим. Сдерживала себя, никому не говорила (говори не говори – не переделаешь), да в бессонные ночи терзала голову мысль о Леночке, живущей в чужой Турции. Среди всех внуков и внучек Леночка была на особом счету. Когда пришло время отправлять её в школу, Эльфрида Германовна поставила категорический крест на профессиональной трудовой деятельности и окончательно ушла на пенсию, решив всю себя посвятить хотя бы одной внучке. Тогда-то и перебралась в Серебрянск к дочери. Водила Леночку в художественную студию, кружки, музыкальную школу. Училась Леночка на круглые пятёрки, с золотой медалью окончила школу, с красным дипломом институт, и вдруг – досталась турку.
Надо сказать, Эльфрида Германовна перед этим только-только пришла в себя от одной напасти, вздохнула с облегчением: слава Богу, пронесло, теперь-то у Леночки по-людски будет… И вот с другой стороны напасть.
До турка Леночка едва не обрела статус жены бандита. Изболевшееся по этому поводу сердце Эльфриды Германовны ликовало, когда ситуация разрешилась по формуле «нет человека – нет проблемы». Больше года Леночку не отпускал от себя Артур. Тип из новых русских, которые носили в лихие девяностые красные пиджаки и золотые в палец толщиной цепи на крепких шеях. Артур пусть и не бритый мордоворот с одной извилиной в голове и та в виде доллара, а всё одно – яркий представитель бандитского бизнеса. К Леночке прилип намертво!
– Бабушка, Артур не тот человек, от которого можно запросто уйти, – объясняла Леночка. – Но он хороший!
Эльфрида Германовна видела, что влипла Леночка, как та муха в сахарный сироп, а помочь ничем не могла.
Артур представлял всем Леночку своей невестой. Одно хорошо, не торопил события с официальным оформлением отношений. «Всё будет, – убеждал Леночку, – загс, шикарное венчание, но сначала дом построю! Западло мне в квартире начинать семейную жизнь. И свадьбу сделаем всем на зависть, твой любимый Басков будет для нас петь-заливаться! Это я тебе обещаю!»
Как умела молила Эльфрида Германовна Бога, прося оградить внучку от такого замужества. Господь ли услышал или что – убили жениха. Девяностые годы оставили для потомков характерные меты – на самых престижных местах самых престижных кладбищ стоят тысячи монументальных памятников в камне и металле, граните и бронзе, дорогие и очень дорогие, аляповатые и мастерски сделанные. Лежат под ними в основном молодые люди мужеского пола. Нетерпеливой братве, ошалевшей от денег, некогда было тратить время на дипломатические переговоры для расширения масштабов своего «бизнеса», всё решалось по-ковбойски – кто быстрее кольт выхватит…
Узнав о кончине Артура с пулей в голове, Эльфрида Германовна не смогла скрыть радость: «Ну, и слава Богу».
И вот теперь Салим. Леночка работала в туристической фирме, в одну из поездок в Турцию познакомилась… Эльфрида Германовна ничего не имела против турок как таковых, но в мыслях не могла допустить мужем Леночки китайца, корейца, араба, турка. Сама в девичестве неоднократно слышала наставления матери: «Бог не для перемешивания разделил людей по цветам кожи, нациям. И если ты немка, надо выходить замуж за немца, ещё лучше – за немца-меннонита». Скорее всего, так бы и поступила, кабы не арест, лагерь… Муж её, Николай Фёдорович, был наполовину русский, наполовину украинец, тем не менее не кореец или араб. Пусть Леночка ещё не задумывается о Боге, да когда-нибудь постучится Он в сердце, а вокруг мусульмане, страна, где замуж выходят не за мужчину, а за его семью… И дети твои будут мусульманами. Леночка прислала фотографии своего никаха – турецкого свадебного обряда, типа венчания. Эльфрида Германовна посмотрела и расплакалась.
Перед глазами имелся случай русско-мусульманского брака. В Татарии в соседях у них была семья Прохоровых – Зухра и Роман. Дети их поразъехались, жили русский с татаркой на пенсии вдвоём. Обоим за шестьдесят, приветливые интеллигентные люди. Дочь Эльфриды Германовны Людмила дружила с Прохоровыми. Те не относились к домоседам, для которых телевизор главный вид досуга. С годами не утратили жизненный азарт, любили людскую кутерьму вокруг себя – разговоры, шумное застолье – часто приглашали Людмилу с мужем к себе на дачу. Не один раз Зухра горячо и настойчиво (вовсе не ради приличия) звала Эльфриду Германовну «свежим воздухом подышать, шашлыков с пылу-жару употребить, вина хорошего выпить». «Куда уж мне замшелой старухе, – отказывалась та, – я свои шашлыки давным-давно съела вместе с зубами, а путаться у вас молодых под ногами не хочу». «Молодые» парились в бане, выпивали (баран без вина в горло не лезет), пели песни, спорили «за политику». Зухра в своё время окончила Казанский университет, в советское время работала программистом, в перестроечное – парикмахером, продавцом, шапки шила. С Романом они поженились ещё в студенчестве, он учился в Казанском авиационном институте, потом работал мастером, начальником цеха, в девяностые начал квартиры отделывать. Мужчина был головастый и рукастый. Более сорока лет супружеского стажа накопили Прохоровы.
В тот роковой майский день были они на даче одни. Днём Роман перекапывал землю, делал грядки, под вечер напилил ножовкой дров, протопил баню. Парился он отчаянно. Баню раскочегаривал по принципу «быка в парной жарить можно». Зухра тоже, несмотря на чисто татарское происхождение, любила жаркую русскую баню. Супруги от души хлестались веничком, выскакивая из парной, обливались холодной водой из вёдер. Завершив банную процедуру, сели за стол. Сервирован был без шашлыков, но имелось чем закусить. Роман любил повторять: «Александр Васильевич Суворов говорил: после бани продай штаны, да выпей! Великий полководец мимо не скажет!». Продавать штаны не потребовалось в тот раз, в холодильнике дожидался заветного часа «суворовский послебанный атрибут» в пол-литровой таре. Граммов сто пятьдесят Роман выпил, а ночью случился обширный инфаркт.
Дальше началось самое интересное. Примчались на похороны из Казани две сестры Романа, Зухра им голосом, не терпящим возражений, заявила, что похоронит мужа по-мусульмански. Сёстры на дыбки – как так «по-мусульмански», брат пусть и не воцерковлённый, но с детства крещёный, и вся родня со всех сторон русская, и вдруг лежать её достойному представителю под полумесяцем… Роман на бытовом уровне понимал татарский язык, женившись на Зухре, по-первости активно изучал его из соображений: чё это я буду белой вороной среди новых родственников. Позже, когда атеизм пошёл на попятный, проявлял интерес к Корану, читал его на русском, но сугубо из любопытства, никогда не собирался обращаться в мусульманство. Кстати, Зухру тоже верующей не назовёшь, воспитывалась в атеистической семье, отец был инструктором горкома партии. Зухра по большому счёту была женщиной светской, хотя знала дорогу к мечети, бывала там. Именно бывала – не больше. Роман тоже не блуждал в трёх соснах в поисках дороги к храму, изредка заходил в церковь свечку поставить. Зухра стеной поднялась – хороним по-мусульмански. Место на кладбище у неё заготовлено, брата похоронила, рядом с его могилой оставила участочек для себя и Романа. Пусть кладбище интернациональное, есть могилы христиан, иудеев и мусульман, она видела своё захоронение и мужа в соответствии с мусульманским обрядом. «Роман знал об этом!» – убеждала сестёр мужа. «Ну и что? – возражали те. – Ну и что? Нам он словом не обмолвился об этом – хоронить по-вашему не завещал».
После долгих споров пришли к консенсусу, причём, сёстры сумели отвоевать основные позиции: хоронить в гробу, ногами, как и положено, на восток ориентировать. В одном пришлось уступить, Зухра стояла насмерть против главного христианского символа – креста. И не только на могиле, запретила на шею Роману надевать, в руку вкладывать. Нет, нет и нет! Слушать не хотела никаких доводов. Пришлось согласиться.
Родственники Романа коварно нарушили данный пункт договора. На кладбище, перед тем как крышку гроба закрывать, ухитрились сунуть крестик в гроб. Одна сестра Романа отвлекала Зухру, тем временем сыновья сестры, плотно сомкнув плечи, выступили в роли ширмы между вдовой и усопшим, в этот короткий момент вторая сестра провернула секретную операцию, положила крестик у плеча Романа.
Зухру посвящать в сей факт не стали. Всем родственникам, кто знал о данной тайне, сёстры наказали держать язык за зубами. Не из опасений, Зухра пойдёт на вскрытие могилы для изъятия креста, нет, из соображения – к чему расстраивать хорошего человека. К Зухре сёстры усопшего всегда с любовью относились. Ценили как хозяйку, мудрую женщину. Дело прошлое, Роман покуролесил в молодости по дамской части, да и в более зрелые годы не сразу угомонился, в сорок пять лет к молодой особе навострил от Зухры навсегда лыжи. Тоже, надо сказать, татарке. Зухра всё перетерпела, сохранила семью.
Всего-то на полтора года пережила супруга. Так что лежат Роман и Зухра на кладбище рядом, но валетом – памятники лицом друг к другу.
От кого-то слышала Эльфрида Германовна, что если ты дожил до правнуков – все твои грехи прощаются. Леночка родила двойню – Дженгиза и Искандера. Черноглазые, черноволосые турчата… С тоской смотрела на их фотографии Эльфрида Германовна. И ничего с собой поделать не могла.
Бог одарил Эльфриду Германовну лёгкой смертью. Она часто повторяла в последний год дочери Людмиле: «Только бы вас не обременять». Всего две недели не вставала с постели. Была в полном сознании, голода не чувствовала, ела как воробей – кашки поклюёт да водички попьёт. Людмила поила её святой крещенской. В Татарии Людмила начала ходить в православную церковь. За десять дней до смерти предложила матери пригласить батюшку. Эльфрида Германовна не воспротивилась. Батюшка окрестил её (так и не крестилась ни по какому обряду за долгую жизнь), исповедовал, причастил, пособоровал. Перечисляя грехи на исповеди, со слезой покаялась, что не научила Леночку мужчин выбирать, не уберегла от турка. На что батюшка с пониманием покивал головой.
Умерла Эльфрида Германовна во второй половине дня. Всю жизнь она более чем тщательно следила за собой, неукоснительно следовала принципу: одежда должна быть всегда чистой, наглаженной, аккуратной, со вкусом подобрана, волосы подвиты, глаза подкрашены, губы помадой обозначены. Обувь до последнего носила на каблуках. И девушкой была привлекательной, и женщиной элегантной, и бабушкой на зависть. Когда в начале восьмидесятых годов канадская родственница оставила небольшое наследство в долларах, поехала Эльфрида Германовна за ним в Москву вместе с сыном Александром. Получила в банке не Бог весть какое наследство, пошла в сопровождении сына в валютный магазин «Берёзка» что-нибудь из одежды прикупить. На входе милиционер посмотрел на Эльфриду Германовну и спрашивает у Александра, которого посчитал переводчиком: «Она хоть что-нибудь по-русски понимает?» За иностранку принял бабушку в элегантном пальто, шляпке с вуалью, туфельках на каблуках, лёгким макияжем на лице…
За час до смерти Эльфрида Германовна почувствовала что-то новое в себе и решила: «Надо или умирать, или вставать». Звать дочь из другой комнаты не стала, села на кровать, опустила ноги на пол, попробовала их на прочность – держали, поднялась, подошла к окну, отдёрнула штору, посмотрела на жаркое июльское солнце, которое скатывалось за Волгу, потом сделала шаг к комоду, над ним висело овальное зеркало. Прошлась расчёской по голове, припудрилась, затем критически посмотрела на своё отражение, вздохнула, задёрнула штору и снова легла.
Сквозь щель, образованную тяжёлыми шторами, в комнатку проникали золотистые лучи, они весело прошивали густой сумрак и ложились узкой полоской на прикроватный коврик. Эльфрида Германовна скосила взгляд на солнечный след, улыбнулась и увидела себя шестилетней девочкой в актовом зале гимназии в Молочанске. Она сидит в первом ряду с мамой и папой, на ней газовое платье – пурпурное, воздушное, рукава фонариком… Сердечко колотится в нетерпении, вот-вот её выход на сцену… Сейчас тётушка Катя тронет клавиши фортепиано, из-под пальцев польётся Шопен…
Зазвучала чудная музыка, но не из-за кулис, где сидела тётушка, полилась сверху… Звучало не фортепиано и не Шопен…
***
В оформлении обложки использована картина Владимира Чупилко «Покров».