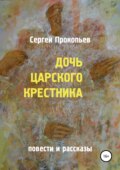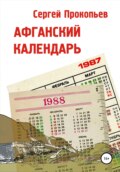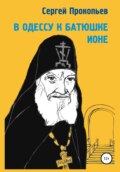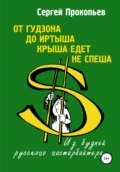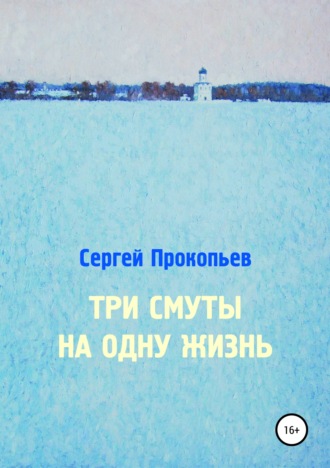
Сергей Николаевич Прокопьев
Три смуты на одну жизнь
Выслана навечно
Работала я на складе металлов заместителем главного бухгалтера с окладом в одну тысячу рублей. Муж получал девятьсот рублей. Жили в достатке. И всё-то было хорошо: свобода, детки растут, заботливый муж. На Первое Мая организация, где работал Николай Фёдорович, устроила банкет. Много было столиков, за каждым по четыре человека. Мы сидели с молодой парой, некий Аркадий Белецкий с женой Амалией. Она из поволжских немцев. Пели с ней немецкие народные песни. Сто лет их не пела, но память хранила все до единой. Было весело, сердечно… Настоящий, впервые за много лет, праздник… Танцевали под патефон…
А 22 июня грянула война. Николай Фёдорович накануне уехал во Владивосток в командировку. Я страшно беспокоилась, что будет со мной и детьми, ведь я немка, да ещё репрессированная. Муж тоже переволновался, что только не передумал – вдруг меня интернировали, выслали. Вернулся, вошёл во двор, на верёвке знакомые пелёнки, и отлегло от сердца. Потом уже узнали: немки, что замужем за русскими, высылке не подлежат. Да и куда, собственно, высылать…
Вскоре получили письмо от мамы, и страшно удивилась обратному адресу, село Жерновка, Казахстан. Почерк мамин, но при чём здесь Казахстан? Из письма узнала, их выслали из Украины. Пока я находилась в лагере, наши (мама, папа, братья и тётушки) перебрались в город Павлоград Днепропетровской области. Там жил с детьми Иван Корнеевич Лепп, муж родной бабушкиной сестры Елизаветы, которая умерла в тридцать пять лет. Мои родители совместно с тётушками купили на окраине города половину дома. Старший брат Гейнц работал киномехаником, Гарри – шофёром. Брат Яша учился в Одессе в институте, Рудольф тоже в институте, но в Днепропетровске. Младшим братьям повезло, на момент, когда они окончили школу, уже не придирались к происхождению так, как было с нами. Гейнц, я и Гарри не могли и думать об институтском образовании. Гейнца, как уже рассказывала, исключили из техникума с первого курса за буружуазное происхождение. Гарри было не так обидно, ему-то институт в любом случае не светил – в каждом классе оставался на второй год. Кое-как закончил пять классов семилетки. В Павлограде папа и брат Саша работали бухгалтерами в заготзерно. Саша учился на вечернем отделении иностранных языков филиала днепропетровского института.
Родители, насколько было возможно, помогали мне, присылали посылки в лагерь. Конечно, отрывали от себя, на иждивении как-никак два студента. Когда у меня появились дети, мама посылала нам детские кофточки, шила из вафельных полотенец. В том первом письме, она сообщила, что вместе с ней в Жерновку выслали её сестёр, моих дорогих тётушек Олю, Лену и Катю. Написала, что не знает, где отец и наши мальчики: Гейнц, Гарри, Яша Рудольф, Саша, Зигфрид. Немного лукавила, про Яшу она знала, да не захотела меня расстраивать.
Не писала мама ни в лагерь, ни позже о печальных и трагических событиях в семье. Лишь когда мы с мужем и детьми переехали в Жерновку, узнали, что папу и Сашу за происхождение сняли с работы в системе заготзерно. Саша после окончания иняза устроился учителем немецкого языка в Лисичанске Донецкой области. Женился на немке Фриде. Его весной сорок первого арестовали. Судила тройка по 58-й статье, получил десять лет, срок отбывал в Кировской области. В лагере совершенно случайно, это уже в войну, встретился с тётей Юстиной (мамой моей двоюродной сестры и подруги Веры Вильмс, в замужестве Дик). Она дала Саше адрес мамы в Жерновке.
Брата Яшу арестовали в 1940 году. Группа из четырнадцати студентов занималась в одном из кабинетов института. До них там занимались другие группы. В кабинете висел большой портрет Сталина, и кто-то, то ли до них, то ли из Яшиных однокашников, воткнул в грудь отца народов перо от перьевой ручки. Стали допрашивать студентов, никто из Яшиной группы не признался, и всех четырнадцать расстреляли. Просто и страшно.
Старшего брата Гейнца и младшего Зигфрида, ещё до высылки мамы, забрали в трудармию. Отправили под Свердловск, где был страшный голод. Там же находился старший сын Ивана Корнеевича Леппа – Иван, наш двоюродный брат. Тоже голодал, но ему посчастливилось выжить. Иван своему родному брату Корнею (Корнюше) рассказал, что видел, как умирали мои братья, сначала старший Гейнц, а следом за ним наш всеобщий любимец, самый младший наш брат Зигфрид. Иван маме не смог рассказать об этих смертях, рассказал ей Корнюша.
Когда мама и тётушки в товарном вагоне ехали в Казахстан, на какой-то станции услышали через окошко вагона громкий возглас: «Есть кто-нибудь по фамилии Нейфельд?» Мама забралась на нары к окну, а из окошка стоящего рядом поезда на неё смотрит сын – Рудольф, мы его звали Рудик. Его везли как трудармейца. Куда – не знал, и мама не могла сказать ему, куда их везут. Состав с мамой тронулся. Со слезами на глазах помахали друг другу руками.
Рудик выжил. Брат Саша, освободившись из лагеря, через газету «Нойес Лебен» узнал адрес Рудика. В трудармии он работал на шахте в Тульской области, пережил несколько аварий.
Отец мой после увольнения из системы заготзерно в Павлограде, устроился главным бухгалтером на секретном военном заводе. Парадокс, в системе заготзерно «бывшим» запретили работать, а на секретный завод взяли. Страна возможных невозможностей и невозможных возможностей.
При высылке в Казахстан на сборы маме и тётушкам дали двадцать четыре часа. Пришлось бросить в Павлограде дом, мебель, коей успели обзавестись перед войной. Мысли не возникло оставить швейную машину, как же без кормилицы, столько лет была палочкой-выручалочкой. Связали в узлы и взяли постель, что смогли, то захватили из одежды. Папы во время сборов дома не было. Он ушёл рано утром на работу, ещё не зная, что их высылают, и не вернулся. Собирая узлы, женщины надеялись, вот-вот он придёт, но подъехала машина, дали команду садиться и повезли на вокзал.
Мама до последнего высматривала его в надежде, примчится на вокзал в последнюю минуту… Уже после войны мама, благодаря всё тому же Корнюше Лепп, узнала о трагедии с папой. Так уж получилось, Корнюша оказался печальным вестником нашей семьи. В Павлограде жила с двумя детьми Корнюшина сестра Мика (муж её был арестован и расстрелян в 1938 году). Её мобилизовали на рытьё окопов близ города. Вернулась в Павлоград, а там немецкие войска. На заборах объявления о необходимости регистрации в немецкой комендатуре. Мика отправилась в бывшее здание милиции, в котором расположилась немецкая комендатура. Вошла во двор и увидела трупы. Видимо, люди были расстреляны при уходе наших из города. В одном из убитых узнала нашего папу. При отступлении немцев из Молочанска в сентябре 1943 года Мика уехала с ними и двумя детьми в Германию. Оттуда перебралась в Канаду к родственникам. Из Канады написала брату Корнюше об увиденном во дворе комендатуры. Если бы не Мика, мы не узнали бы, что случилось с папой.
Один Бог ведает, где гниют его косточки и троих моих братьев – Гейнца, Яши и Зигфрида…
В Жерновке мама и мои тётушки, Лена и Катя, работали уборщицами в школе. Тётя Оля, у неё участились приступы эпилепсии, сколько было возможности, шила людям. Мама тоже шила в свободное от работы время. В 1943 году в конце сентября выпал снег и не растаял. Под снегом, кроме картошки, осталось много зерна. Голодные люди собирали ранней весной перезимовавшее зерно, мололи на домашних мельничках и ели. После чего у многих началась септическая ангина. Мама и тётя не болели, хотя тоже употребляли муку из перезимовавшего зерна. Возможно, потому, что они, как и вся наша семья, ели мало, особенно хлеба. К тому же, благодаря шитью, питались они сносно, на столе бывало частенько масло, сметана, молоко. Смерть подошла к тётушкам с другой стороны. Как-то к ним постучался в окно голодный больной мальчик. Сердобольные по натуре женщины впустили бездомного и оставили у себя. А у него был тиф и педикулёз. Мама и тётушки заразились тифом. Тётушки в течение месяца одна за другой умерли. Мама осталась.
Забегая вперёд скажу, что когда мы жили в Дмитриевке, послали запрос сначала в Киев, вторично в Москву, просили разрешения на переезд мамы к нам. Немолодая женщина живёт одна одинёшенька за много тысяч километров от родственников. Из Киева и Москвы получили стандартный ответ: «Выслана навечно». Тогда мой муж решил: будем просить разрешения переехать к ней, а напирать на то, что он уроженец Змеиногорска, Алтайского края, а это рядом с Шульбинским районом Казахстана, к которому относится Жерновка.
По соседству с войной
Вернусь к описанию жизни в Хабаровске. Ещё до рождения третьего нашего ребёнка, Люси, стройка железнодорожных путей была закончена. Вольнонаёмным предложили либо лагерь в Совгавани, либо Архангельская область – лагеря Северодвинстроя. Муж выбрал последний вариант, исходя из соображения: север, туда ни немец, ни японец не пройдут. Тогда боялись вступления в войну японцев, германских союзников, все говорили о так называемой оси «Берлин-Токио-Рим». Поэтому многие склонились к Северодвинстрою.
Ехали довольно комфортно, в пассажирском поезде. Всем выплатили подъёмные, предоставили бесплатный проезд, обеспечили продуктами питания. В соседнем купе находился Киркин (начальник финчасти) с женой и тремя детьми чуть постарше моих. Доехали до Кирова, где предстояло делать пересадку, а в Кирове, бывшей Вятке, столпотворение! Привокзальная площадь и вокзал забиты людьми. Большинство – бывшие заключённые, их досрочно освободили из северных лагерей для пополнения армии Рокоссовского.
Николай Фёдорович и Киркин отправились переоформлять багаж к поезду на Котлас, а нам, женщинам, наняли двух бывших заключённых, чтобы помогли отнести чемоданы и отвести детей в детскую комнату. Мой помощник в одну руку взял чемодан, на другую посадил Сашу. Я за руку держала Лялю, Люсю несла на руках. Ей ещё и трёх месяцев не было. Мой помощник мужчина расторопный, тараном пробивался через толпу, я держалась за ним. С трудом добралась до детской комнаты. А Дуся Киркина где-то отстала. Дверь в комнату была не закрыта, я устроила детей на скамейке в коридоре, и тут пришла заведующая, крупная женщина с густым голосом, и потребовала немедленно освободить помещение. Мол, комната переполнена до отказа, ещё и я влезла без разрешения. Я не стушевалась от её напора, решительно ответила, что муж занят оформлением багажа, пока он не придёт, никуда не уйду с тремя детьми. Заведующая принесла градусник, начала измерять температуру у детей, в надежде – повышенная, тогда бы она нас выдворила по уважительной причине – дети больны. Слава Богу, ничего аномального не намерила и сквозь зубы разрешила временно сидеть в коридоре. В этот время в детскую комнату принесли для продажи какие-то коврижки. Женщины довольно хорошо их брали, однако торговка не всё распродала и понесла оставшийся товар в зал ожидания. Открыла туда дверь из детской комнаты и я услышала детский плач и крик женщин. Кричала Дуся Киркина. Голодная толпа, услышав о коврижках, надавила ринулась к торговке, Дуся оказалась на их пути, её с детьми прижали к стенке. С трудом я уговорила заведующую впустить в коридор Дусю с детьми. Вскоре муж и Киркин пришли за нами.
В Котлас поезд прибыли поздно вечером. Муж и Киркин решили сначала устроить семьи, а потом получить багаж. Правильно сделали, так как детская комната была переполнена, нам кое-как удалось с Дусей и детьми устроиться. Многие из наших попутчиков коротали ночь с детьми в зале ожидания.
На следующее утро мужчины поехали в город искать жильё. Что оказалось сверхсложным делом. Николай Фёдорович обошёл едва не весь Котлас, и везде в ответ на его вопрос звучало «нет». Сначала он спрашивал про домик, полдомика или хотя бы отдельную комнату, к вечеру был согласен на любые условия, лишь бы крыша над головой. Её согласился предоставить коми по имени Петя. Небольшенький кривоногий мужичок с плутоватыми глазами. Дом имел не из маленьких, но проповедовал принцип, на какой ляд городить перегородки – жизнь семьи должна быть как на ладони – видна из любого угла. Посему дом располагал всего одной, хотя и большой комнатой. Наблюдать в ней было за кем – орава деток ходила, бегала и ползала по всей полезной площади. Про свою жену, маленькую, вперевалку ходящую женщину, Петя с гордостью говорил: «Моя баба мала-мала, да носка!» Наносила «баба» Пете десять детей. С нами квартирантами в доме собралось семнадцать человек.
Три недели мы жили коми-русско-немецким табором. Незабываемое время. Петя дни и ночи проводил на полатях. Не знаю, работал ли он вообще где-нибудь. При нас обитал исключительно на полатях. При этом не просто поплёвывал, зевая от скуки. Петя не скучал, а зорко следил за перемещениями моих детей, стоило им спуститься на пол… Из всего жизненного пространства дома нам была выделена большая деревянная кровать. С жёстким условием – сидеть безвылазно. Мне разрешалось по нужде сходить, поесть, детей покормить. Стоило Ляле или маленькому Саше спуститься на пол поиграть, хозяин начинал бесноваться на палатях: «Убери своих ублюдков!»
Это был театр одного актёра. Петя вовсе не боялся, мои детки нанесут урон его многочисленным чадам или жилищу. Петя преследовал коммерческий интерес. Услуга использования пола для детских игр трактовалась им, как дополнительная, а значит, предоставлялась лишь за отдельную плату. В качестве коей с большим удовольствием принимались макароны или рис. Получив желаемые продукты, Петя на непродолжительное время делался страшно покладистым, границы его души расширялись до невозможности. Дескать, пусть русские дети хоть на головах ходят, ничего не жалко.
Бельё мы с «ноской» хозяйкой стирали в проруби в Северной Двине. Пока я стирала своё, хозяйка оставалась дома с детьми моими и своими и наоборот. Придёшь с реки, руки красные, горят. Не забыть ту ледяную воду и огонь в руках от неё.
Подселяясь к Пете, мы рассчитывали задержаться у него дня на три-четыре, потерпеть тесноту и неудобства и ехать дальше. Оказалось, все мы, приехавшие в Котлас для отправки в Архангельск, зависли между небом и землёй в планах высокого начальства НКВД. Ещё когда ехали из Хабаровска, Северодвинстрой расформировали, и теперь Москва никак не могла определиться, что с нами делать.
В конце концов отправили на строительство железной дороги Саратов-Сталинград. Ехали не так комфортно, как с Хабаровска – в товарных вагонах. Подолгу стояли на станциях. Все пути были забиты составами. На восток шли поезда с ранеными и военной техникой, побывавшей на фронте и требующей ремонта. На запад везли новую технику и новое пополнение солдат.
В нашем вагоне находилось шесть семей. Одна бездетная, у одной был двенадцатилетний сын, две семьи имели по двое детей, у нас – трое, в одной семье – четверо. По обе стороны вагона стояли двухъярусные нары. Верху разместились матери с маленькими детьми, там было светлей от окошек. Посредине вагона стояла большая железная печь. Что хорошо, в составе имелся вагон-лавка. Всё необходимое можно было купить, кроме курева. Муж в связи с этим почти всё время спал. Сон помогал бороться с никотиновой зависимостью. Я тогда легко переносила отсутствие курева. Дуся Киркина на одной станции ухитрилась купить дрожжи. Мука и масло продавались в вагоне-лавке. Все начали печь пышки. Всё бы хорошо, но поднимался смрад и дышать на втором ярусе было нечем.
Горшок моих детей стоял в вагоне на полу. Мне лишний раз слезать было неудобно. От еды оставались крошки, они сыпались вниз. На нижних нарах разместился инженер с двенадцатилетним сыном. Они из чемодана соорудили столик. На нём стояли тарелки, прикрытые салфеткой. Я часто будила мужа, когда детям требовался горшок. Ему это не нравилось, и он поставил горшок на доску, которая была прикреплена под окошком вдоль вагона. Как-то раз состав сильно дёрнули, и горшок (не пустой) упал на чемодан-столик. Мало того, что по закону подлости всё вылилось на столик, не на пол, куда потом свалился горшок, а на столик. Ещё и тарелку разбило горшком вдребезги. Будь инженер женщиной, скандалу было бы не оберёшься. Этот снёс молча. Чемодан ему, как могла, вымыла, тарелку возместила.
Весной прибыли на станцию Увек, это рядом с Саратовом, ниже от него по Волге. А дальше – Сталинград. Навигация в сорок втором открылась поздно, ожидая первых пароходов, жили в вагонах целый месяц.
Ночью однажды просыпаюсь, все сидят, понурив головы. И молчат. Оказывается, я так крепко спала, что не услышала, что мы приехали на войну. Германцы бомбили заводы – крекинг (нефтеперерабатывающий) и машиностроительный. «В чём дело?» – обратилась к мужу, и тут раздались частые выстрелы зениток, а потом долетели леденящие душу звуки разрывающихся бомб. Заводы, работающие на войну, были относительно далеко от станции, но рядом с ней находился шпалопропиточный завод, переоборудованный под выпуск заготовок для дзотов. И сама станция – стратегический объект. Поэтому соседи приуныли, если начнут бомбить станцию – нам несдобровать. Но обошлось.
Денгоф
С открытием навигации мы погрузились на пароход и вскоре прибыли на место, коим оказалось немецкое село Денгоф. Большое, с хорошими домами, трёхэтажной школой. Депортированные немцы, уезжая на восток, бросали всё: дома, мебель, дрова, кизяк, скотину. Бедная скотина, дичая, бродила по окрестностям. До нас в Денгоф приехало тридцать семей, эвакуированных с Украины. Они загнали в сараи бродячих коров, стали их обихаживать. Пустых домов стояло не одна сотня – выбирай любой на свой вкус. Муж остановился на доме с верандой, коридором, двумя спальнями, зимней и летней кухнями. На дворе два больших сарая, один для скота, второй – для топлива. Просторная кладовка, из неё лестница в погреб. Крепко жили хозяева. Всё сделано из добротного материала, в основном – из жжёного кирпича.
Внутри нашего дома что ни возьми покрашено, но безвкусица… Пол – ярко-жёлтый, потолок – ярко красный, окна и двери – тёмно-синие. Что ещё поразило – в каждой комнате печь, вроде плиты. Но конструкция более чем странная. На месте привычной чугунной варочной плиты с конфорками вмурованы два больших котла. Даже в зале стояли эти жуткие монстры. Что уж в них варили? Для какой цели предназначались эти образцы печного искусства? Во всяком случае – не ради красоты их сооружали.
Прожили мы в Денгофе недолго – лето сорок второго. Затем переехали в районный центр Бальцер (ныне Красноармейск), затем в село Мессер (сейчас Усть-Золиха), где была огромная лютеранская кирха. Величественная, красивая. Из Мессера перебрались в совхоз Марининский.
В войну жили мы сравнительно неголодно. Во всяком случае, значительно лучше, чем основное население. Мы относились к системе НКВД, которая вполне сносно снабжала вольнонаёмных. Случались отдельные скудные дни, питались одним пшеном и постным маслом, зато не было недостатка в хлебе. Другая головная боль беспокоила – топливо. Края степные. Продукты есть, а сготовить детям и себе не на чём. Особенно страдали в Бальцере. Приходилось промышлять в пустующих домах. Хозяева-немцы в Казахстане, Сибири, на Алтае, а мы в брошенном жилье безжалостно выламывали лестницы, снимали и курочили двери.
Сама занималась этим варварством, мужа посылала. Во время войны все организации работали с утра и до поздней ночи. Николай Фёдорович уходил в управление к восьми утра, на обед приходил к двенадцати, в час снова отправлялся на службу, возвращался после семнадцати, до двадцати ноль-ноль был второй перерыв, после него работал до двадцати трёх часов. В тот раз присмотрел хороший вариант с дровами. Недалеко от нас пустовал дом. Муж днём тщательно обследовал его и присмотрел в кладовке высокую добротную лестницу, ведущую на чердак. Приглянулись ступеньки: толстые да массивные, чем не дрова. Прямо под лестницей располагался люк в погреб с массивной деревянной крышкой. Николай Фёдорович поднял её, в погребе тоже было чем поживиться – деревянная лестница, да и сама крышка люка привлекла внимание поисковика, из доски пятидесятки сбитая, гореть будет за милую душу. Всё дерево до звона сухое.
Возвращаясь с работы, решил для начала прихватить несколько ступенек чердачной лестницы. Ночь выдалась самая воровская – тёмная, хоть глаз коли. Николай Фёдорович был без фонарика, однако хорошо запомнил путь в кладовку, прошёл в неё, сделал шаг под лестницу, чтобы начать выбивать ступеньки и рухнул вниз… Пока он сидел в своей конторе, крышку с погреба попятили. Конкурентов по заготовке дров в пустующих домах хватало. Муж ударился коленом о лестницу погреба, пришёл домой, припадая на ушибленную ногу… Да ладно бы одна хромота, кроме этого лицом гвозданулся, завершая короткий полёт во чрево погреба. Как результат – синяк под глазом. Первым делом к зеркалу дома сунулся: «Как я завтра в таком виде на работу пойду?» А куда деваться – надо идти. Повеселил сотрудников фонарём под глазом. «Николай Фёдорович, – спрашивали, – за что вас жена так отволтузила? Неужели шерше ля фам?» Не будешь объяснять, что на воровское дровяное дело ходил под покровом ночи.
В другой раз обошлось без травм, но так же без топлива. Я Николаю Фёдоровичу резко сказала, когда он уходил в управление после второго перерыва (к восьми вечера), что дров у меня ни грамма. Пустующие дома в округе разорили до основания, ничего деревянного не осталось. Ситуация аховая, ни полена в доме, ни щепочки – утром чай не на чем будет вскипятить детям.
В здании управления, где работал муж, имелась в подвале своя котельная. На её нужды привезли и сгрузили во дворе короткие брёвна. Сей факт я днём зафиксировала по пути в магазин. Закончив работать в двадцать три часа, муж задержался, подождал, пока сотрудники уйдут, и под покровом темноты прихватил одно брёвнышко. В свете бледной луны, выныривающей из-за облачков, облюбовал среди брёвен гладкое, без коры. Решил, коль без коры, значит, сухое, в самый раз на дрова. Был в рукавицах, подхватил брёвнышко – о, не тяжелое, точно сухое… На его требовательный стук (как же – добытчик явился), дверь открываю, Николай Фёдорович победным шагом заносит бревно в сенцы и говорит: «Тут тебе и чай, тут тебе и суп с макаронами!» Довольный. И опускает на пол ношу.
Спрашиваю: «Зачем нам это?» – «Как зачем, – удивился, – для топки!» И только после этого разглядел добычу. Принёс эбонитовую трубу.
Хорошо, особо не надеясь на его добычливость, немного дров нашла, пока он был на работе, так что пили чай и хохотали.
Однажды в очереди за хлебом пожаловалась женщине постоянной бедой с топливом. Она поделилась своим опытом, придумала отличный способ решения проблемы с дровами. Ими обеспечивает её солдат, а рассчитывается с ним хлебом. В Бальцере находились новобранцы, ожидающие отправления на фронт. Казарма как раз по пути в магазин. Я подошла к группе солдат. На моё предложение они грубо отказали. И всё же один согласился. По вечерам в свободное от службы время, он приносил дрова. В благодарность угощала его ужином и отдавала пайку хлеба. Солдата звали Витей, однажды принёс дрова и говорит: «Ну, тётя Фрида, последний раз принёс, послезавтра на фронт». На мой вопрос: боится или нет, ответил: «Боюсь! Старший брат Володя погиб в сорок первом, погибли два дяди. Пусть бы Гитлер со Сталиным дрались между собой, зачем нам молодым погибать?»
Году в сорок девятом столкнусь с ним в Казахстане, в Петропавловске. Была в командировке, на вокзале стою у кассы, смотрю, Витя. Сразу узнала, и он меня. Выжил, до Праги дошёл, там ранение получил. Мальчишкой был, когда мне дрова носил, а тут мужик. Обрадовался: «Вы так хорошо отнеслись в Бальцере ко мне. Голодно было, а вы покормите, да и по дому тосковал, у вас посижу, будто у родственников побываю…»
Как я уже говорила, мне во время войны легче жилось, нежели в годы тюрьмы, лагеря, да и многие годы до ареста нас как «бывших» преследовали. А в войну чувствовала себя свободно, не было груза на душе. Муж был под бронью, хотя потом начали и с бронью понемногу забирать на фронт. И снова страх, что будет со мной немкой, тремя детьми. Но повезло, муж до конца войны оставался под бронью. Последнее его место работы в системе лагерей НКВД был совхоз Мариинский. Вскоре по окончании войны из системы НКВД начали увольнять всех вольнонаёмных, бывших заключённых, в том числе и мужа.
Рядом с совхозом было село Большая Дмитриевка. Переехали туда в июне 1945-го, муж устроился главным бухгалтером леспромхоза. Вот здесь мы почувствовали, что значит система снабжения НКВД. Спасла нас картошка, уродилась в том году в большом количестве. Иначе бы голодали по-настоящему. Я не работала – детсада не было, а няню не на что нанимать. Муж по карточкам получал пятьсот граммов хлеба в день, нам, иждивенцам, не полагалось. Вот и крутись. Было дело, муж за одеяло выменял пуд ржаной муки. Дабы поменьше расходовать ценный продукт, варила картошку, пропускала через мясорубку и добавляла в тесто. Тесто из ржаной муки само по себе туго на подъём, а с примесью большого количества картошки совсем не поднималось. Не помогали и кресты из теста, которые муж укладывал на хлеба, говорил, так его бабушка делала.
Мне удалось однажды по случаю купить рыбий жир в аптеке. Пекла на нём лепёшки из ржаной муки и картошки. Ужас, как рыбий жир глаза ест, и запах невыносимо тошнотворный. Брошу лепёшки на сковородку, сама пулей из кухни в коридор к входной двери. Постою, свежего воздуха глотну, глаза протру, потом, стараясь не дышать, забегу на кухню, переверну лепёшки и снова к выходу. Делила блюдо следующим образом: положу на обеденный стол перед каждым по пять лепёшек, мужу – мужчине-кормильцу – шесть. Как ни просила их не спешить разделываться с лепёшками, всё равно пока разливала суп по тарелкам, муж и дети успевали лепёшки прикончить. И сидят с невинными глазами. Куда деваться, из своей порции выдам каждому по лепёшке. Хорошо, организм у меня такой, что немного требовал еды, малым обходилась.
В Большой Дмитриевке жили с июня 1945-го по февраль 1947-го. Из Жерновки от мамы получали письма, непросто ей было одной. Безрезультатно хлопотали о переезде мамы к нам. Не разрешали с убийственной формулировкой – «выслана навечно». Тогда муж, напирая на факт, что он житель Змеиногорска, Алтайского края (Змеиногорск рядом с Восточно-Казахстанской областью и Жерновкой), стал просить, чтобы нам разрешили переехать жить к маме. Просьбу удовлетворили.