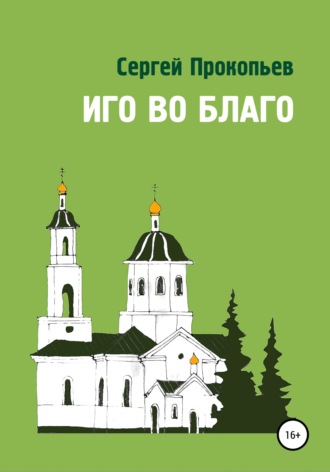
Сергей Николаевич Прокопьев
Иго во благо
Директором музея была та же самая женщина, что и в прошлый приезд. Зашли к ней после поездки к памятнику, чаем давай угощать.
– Меня, – говорит, – зовут под Осиновку за ягодами. Правда, предупредили: там Маша с детьми ходит.
– Какая Маша? – безмятежно спросил.
– Медведица.
– Как медведица? – жена поперхнулась чаем.
На следующее утро мы с Мишей из гостиницы отправились на реку. Две реки, Ловать и Кунья, сливаются в районе Холма и делят город на две части. Мы переплыли Кунью, попали на пляж, пересекли его и оказались на берегу Ловати. На противоположенной стороне был высоченный холм. По рассказам директора музея, на холме стояла до войны каменная церковь. Лютеране немцы, захватив город, православный храм переделали под дзот. Высоченный холм, а на его вершине дзот – позиция, лучше не надо, а ещё две водные преграды внизу.
Ловать была посерьёзнее, впадающей в неё Куньи – шире, течение сильнее, я оставил Мишу на пляже – загорай, благо погода отличная, сам поплыл. Благополучно перебрался на другой берег, и вот он холм с остатками церкви на самом верху. Крутой резкий подъём, где за траву цеплялся, где за голую землю, в одном месте гребанул – кость человеческая, берцовая. Рядом вторая. Воин ли, который брал высотку, наткнулся на пулю, или кто другой упокоился.
Поднялся наверх. От церкви осталась кирпичная кладка метра три высотой. Немцы бойницы в стенах пробили. Стены толстенные, укрытие лучше не придумать круговую оборону держать. Говорят, только артиллерией удалось выкурить немцев отсюда.
Никаких других строений не осталось вокруг на холме, только развалины церкви говорили: здесь когда-то жили люди. Через Холм пролегал путь из варяг в греки. Город был бойким местом. А как все варяги ушли в греки, а потом ещё и немцы поутюжили Холм войной (ни одного дома целым не осталось), городок сделался заштатным.
Кости, что нашёл, взбираясь на холм, забрал. Переплыл с ними Ловать, а потом Кунью, с Мишей захоронили останки, поставили крестик¸ из двух прутиков связанный. Пусть хоть такой постоит.
Так мы побывали у деда Николая.
На обратной дороге заехали в Дивеево. Остановились у дедуси с бабусей, у которых в самое первое своё паломничество жили. По совету дедуси, дубки в саду в землю прикопал, дабы корневую систему лучше сохранить.
В ту поездку в последний раз виделся с Петром из Арзамаса. Он показывал свою церковь с позолоченными куполами. Белая, купола горят. Красавица.
Внутрь не попали. У Петра произошёл конфликт со священником и полномочия старосты он с себя сложил. Постояли у храма, полюбовались. Пётр оправдывался, мол, думал, кто-то обязательно будет в храме. Ему очень хотелось показать обновлённый иконостас.
– Смотри-смотри, – гордо указывал на купола, – как горят! Настоящее золото!
Олигарх сдержал слово, выделил деньги на золочение куполов.
Не исключено, конфликт с настоятелем возник из-за того, что Пётр начал грешить с вином. Он как-то признался: был период – запивался. Это ещё до того, как вошёл в православную среду. После армии понесло в этот грех. Потом выправился. Когда рассказал об этом, попросил молиться за него, чтобы сил хватило держаться и дальше. То ли мы плохо молились, то ли он ослабил поводья.
Через полгода после нашей последней встречи, Пётр позвонил и попросил взять у отца Саввы благословение на женитьбу. Я пообещал заехать к батюшке. На следующий день Пётр звонит: не надо батюшку тревожить.
– Решил жениться без благословения? – спросил Петра.
– Да нет, – уклончиво ответил, – передумал.
Прошло какое-то время, снова позвонил на тему батюшкиного благословения. На этот раз на издание газеты просил. Решил на пару с товарищем выпускать газету, название что-то типа «Народный целитель». О травах, рецептах народной медицины… Сказал, что сугубо православной направленности. Что уж он взялся за это, не знаю. Батюшке я доложил, он в свою очередь спросил:
– А хорошее дело?
– По словам Петра, – говорю, – сугубо для здоровья, чтобы химией люди не травились. С православным уклоном.
Батюшка дал благословение.
С газетной затеей ничего не вышло.
С обидой месяца через два позвонил Пётр. Я, дескать, с чистым сердцем поверил старцу, кредит взял, вбухал с товарищем более полумиллиона рублей, а вышел пшик, тираж практически не разошёлся.
Жёстко ответил ему. Объяснил: надо было самому приезжать и досконально всё батюшке объяснять.
– Батюшка, – говорю, – благословил тебя на дело во славу Божью. Благословение это ведь не «по щучьему велению, по моему хотению».
Недели через две Пётр позвонил, попросил прощения. Объяснил, что местные жучки сначала говорили, давай-давай, а потом перекрыли каналы реализации. Подставили незадачливого предпринимателя.
Покаялся и говорит:
– Какие мы, Саша, счастливые, у нас такой батюшка есть.
За год до смерти батюшки сотовый зазвонил, высветился номер Петра.
– Петя, – говорю, – привет.
Из трубки:
– Это мама Пети, он умер, вчера похоронили, помолитесь за его душу, вы ведь дружили. Он так мечтал в последнее время съездить в Омск, всё повторял: какой там живёт батюшка Савва, какой батюшка!
Я заказал панихиду и сорокоусты в трёх или четырёх церквях. В монастыри позвонил, тоже заказал сорокоусты. И перенёс Петю в помяннике из одной графы в другую.
К деду Николаю на могилу хотел съездить на семидесятилетие Победы, не удалось. Надо будет без всяких юбилеев как-нибудь собраться.
Мама не один раз просила:
– По возможности могилу деда не забывайте.
Она мне года за два до своей смерти, передала тетрадный листок, исписанный именами и фамилиями близких родственников, со словами:
– Ты, Саша, лучше меня знаешь, как поминать, не забывай про них, тут самые близкие.
Что касается маминой родословной, её дедушка по отцу, мой прадед, Алексей Иванович, жил в Сибсаргатке. Казак. По фамилии Орлов. Весь род по мужской линии – орлы и гвардейцы. У Алексея Ивановича рост два метра четыре сантиметра, у его брата Ивана Ивановича – два ноль три. Сохранилось фото, стоят плечо к плечу два богатыри. Глядя на таких богатырей жить хочется. У Ивана Ивановича борода, один к одному моя – лопатой, причём, совковой.
Прадед Алексей Иванович вернулся с Первой мировой весь израненный. Всего два года и пожил. Не хватило богатырского здоровья перемочь болезни – умер. Жена его, Вера Андреевна, осталась с тремя детьми: Шура, Николай (мой дед), Елизавета. Помаялась одна и повторно вышла замуж, снова за сибсаргатского казака, перебравшегося к тому времени в Омск. Что интересно, не родственник, а фамилия та же – Орлов. Василий Орлов. Он жену схоронил, остался с двумя дочерями, Зоей да Надей. Стало на двоих пятеро детей.
Баба Шура, мамина родная тётя, всех пережила, умерла в прошлом году ста двух лет от роду. Она последний мой родственник довоенного и даже дореволюционного рождения из тех, кто дожил до наших дней.
Раз в год на родительский день, в Великий пост или в субботу перед Троицей, еду в храм Всех святых, что на месте бывшего Казачьего кладбища, и заказываю панихиду родственникам, кто упокоился в этой земле. Первой в середине тридцатых похоронили на Казачьем прабабушку Веру Андреевну, ненамного пережил её второй муж – Василий, рядом лёг. Елизавета, родная сестра деда Николая, тоже перед войной умерла.
– Гроб с ней на своей машине везла на Казачье кладбище, – рассказывала баба Шура.
Чуть не забыл такой факт. Мама, как-то смотрела списки воинов, умерших в омских госпиталях от ран и наткнулась на Сергея Сергеевича Андреева из города Холм, похороненного на Казачьем кладбище.
В мемориальном сквере на месте кладбища был установлен символический надгробный камень тем, кто умер в омских госпиталях и похоронен на Казачьем кладбище. На нём несколько десятков фамилий, все умершие не уместились, Андреева в списке них нет. Мама несколько раз ездила к камню (я раза два возил) с цветами.
– Глядишь, – говорила, – кто-то и моего папу помянёт в Холме.
Мы пытались найти родственников Сергея Андреева. Директору музея в Холме послали фамилию солдата. Не смогла отыскать – город в войну был весь разрушен, архивы уничтожены.
За раба Сергия тоже молюсь по наказу мамы.
Не могу не сказать о сёстрах деда Николая, родных и сводных.
Баба Шура была истиной казачкой. В кости крепкая, боевая. С лошадьми, как сама рассказывала, обращалась запросто. Ничего не стоило на хорошем коне забор из жердей перемахнуть на всём скаку. Да город потребовал более прогрессивных навыков. Подалась баранку крутить. До войны, в войну и после оной летала по городу сначала на полуторке, потом на ЗИС-5.
Её на фронт не призвали, а Зою, сводную сестру, дочь Василия, забрали в восемнадцать лет. Через полгода привезли в санитарном поезде с тяжелым ранением.
И её баба Шура отвезла на полуторке к родственникам на Казачье кладбище. Вдвоём с Надей хоронили.
Есть в семейном архиве довоенная фотография, от мамы осталась: три казачки-красавицы – Шура, Зоя, Надя.
По рассказам бабы Шуры, Надя жила с улыбкой на лице, на мир смотрела счастливыми глазами, ожидая от будущего исключительно хорошего. Доверчивая, открытая. Любила ездить с Шурой на машине. Нравилось смотреть на город с высоты пассажирского сиденья. При этом вдохновенно пела бодрые довоенные песни.
…Мчались танки, ветер подымая,
Наступала грозная броня.
И летели наземь самураи
Под напором стали и огня.
И добили – песня в том порука
Всех врагов в атаке огневой
Три танкиста – три веселых друга —
Экипаж машины боевой!
В сентябре сорок первого года Надя устроилась на авиазавод. Была у неё комнатка в коммуналке. С началом войны с жильём в городе стало туго, к Наде подселили ушлую бабёнку с их же завода. Та работала в столовой посудомойкой, овощерезкой.
Комната у Нади крохотная, только-только две кровати поставить. Бабёнка решила – на двоих жилплощадь не рассчитана. Ей надо мужичков водить, а тут помеха. Хотя Надя пропадала на заводе с раннего утра до поздней ночи, бывало, сутками дома не появлялась. Бабёнка, как только представился случай, избавилась от хозяйки комнаты. Однажды та с мастером приватно договорилась, что выйдет после обеда, ей надо было какие-то бумаги оформить.
Бабёнка утром будит Надю, дескать, почему на завод не идёшь? Надя возьми и скажи откровенно: мастер её прикроет.
По законам военного времени за опоздание более чем на двадцать минут судили. Тем более – за прогул. Бабёнка доложила своему хорошему знакомцу зам. начальника по режиму о «вопиющем нарушении». Надю арестовали, дали срок, отправили в лагерь. Больше её родные не видели.
Разбитная бабёнка, кстати, недолго на правах хозяйки блаженствовала на освободившейся площади, вскоре тяжело заболела и умерла.
В моём помяннике, с маминой добавкой, более трёхсот имён в списке «за упокой», есть за кого молиться.
В шестидесятые годы Казачье кладбище снесли, и получилось – никого из родственников не перезахоронили. Так и остались в той земле. Хотя тоже навряд ли, когда фундаменты под строительство многопрофильной детской больницы и жилых домов рыли, столько, говорят, костей вывезли с грунтом.
Глава восемнадцатая
Полинка
Из сети салонов нашей фирмы, только омский филиал не работал в воскресенье. Москву в самочинство посвящать не стал, ни к чему руководству лишние знания о подчинённых. В Москве салоны в воскресенье работали, сама головная контора отдыхала. Я решил, пойдут не пойдут мои люди в храм, это их дело, моё – предоставить такую возможность.
По четвергам проводил оперативки. Подводил итоги прошедшей недели, ставил задачи. Была одна особенность наших производственных посиделок, поступив в духовное училище, завёл железное правило в нашем филиале, начинал совещание не с оглашения цифр объёмов реализации, сравнительной статистики продаж, а с церковной тематики. На неделю вперёд рассказывал о предстоящих православных праздниках, чтимых святых, подвигах мучеников, новостей Омской епархии.
Говоря о чудесах, связанных со святыми, приводил собственные примеры, связанные с Серафимом Саровским, Сергием Радонежским, Николой Угодником, Матушкой Матроной, Ксенией Петербуржской, Валентиной Минской. О тех самых случайных неслучайностях, которые со мной происходили. Другие примеры из жизни.
Первое время по скептическим физиономиям видел, сотрудники мысленно крутили пальцем у виска – директор блажит. Кому-то, допускаю, было не по нраву, да не уйдёшь, когда начальник речь держит. Постепенно к новшеству привыкли, вопросы начали задавать. На Крещение появились желающие совершить паломничество в Большекулачье в монастырь. Кто святой водички набрать, а кто и в Иордань отчаивался погружаться. Дизайнер Света Лысенко не побоялась годовалую дочку взять. Всю не погружала, но раздела, ножки помочила, головку водой у проруби омыла. Женщины ахали: ты с ума сошла, заболеет. Ничего подобного, никаких отрицательных последствий.
Однажды веду оперативку, вдруг звонок, на проводе Максим Цаплин, директор новосибирского филиала, с предложением съездить в Томск на фабрику стульев. Нюх ему подсказывал, можно выгодно поторговать профильным товаром параллельно с кухнями. Хороший его знакомый приобрёл фабрику стульев, делает выгодное предложение.
– Ещё как поеду, – говорю, – если будет возможность святому Феодору Томскому поклониться.
– Да без проблем, – ответила трубка.
Тут же поделился радостью с сотрудниками. Месяц назад прочитал брошюрку о святом праведном Феодоре Томском. Ничего до этого не знал о самом загадочном святом земли Сибирской.
Чем взволновало жизнеописание старца, в детстве два лета провёл в местах, где проявилась святость сибирского подвижника Христовой веры.
В 1836 году в Пермской губернии крестьяне задержали и передали властям подозрительного странника, назвавшегося Феодором Кузьмичом Кузьминым. Был он преклонного возраста, необыкновенной для странника наружности – величавый, благообразный. Изысканные манеры, правильная речь выдавали человека знатного происхождения, который уклончиво утверждал, что ни грамоту не знает, ни какого он рода-племени не ведает. Так, перекати поле. Документов, удостоверяющих личность, при себе не имел. Одет убого. Веры, дескать, православной, образ жизни такой, что под каждым кустом и стол, и дом. С места на место ходит, а пропитывается у добрых людей.
В царской России бродяжничество не поощрялось, привлекли задержанного субъекта к суду. Судейские повидали всяких бродяг на своём веку, таких особ не доводилось. Не сходились концы с концами, однако старец стоял на своём: безграмотный, безродный, путь держит в Сибирь.
Суд есть суд, назначил наказание: двадцать ударов плетьми, после чего отправил задержанного по этапу туда, куда странник сам направлялся – в Сибирь. Определили бродягу на поселение в деревню под названием Зерцалы.
Я чуть не подпрыгнул, как прочитал «Зерцалы, Ачинского уезда, Боготольской волости». Я был в Зерцалах. Дальше встречаю в жизнеописании старца информацию, что поднадзорного бродягу поместили в 1837 году в «…казённый винокуренный завод в селе Красная речка». И здесь был повод подпрыгнуть. Это ведь дорогие сердцу места. На том винокуренном заводе, а если перевести на современный язык – спиртзаводе, мой дядя Афанасий, мамин брат, механиком работал. Само собой, не при Феодоре Кузьмиче. Он в армии служил в Ачинске, ну и познакомился с краснореченской девахой. Рыбаку и охотнику по душе пришлась не только деваха со всеми её девичьими достоинствами, ещё и таёжный край, в коем она проживала. Не захотел дядя Афанасий от такого добра в Омск возвращаться.
Старца назовут Томским, но в Томске всего шесть лет пробудет, а двадцать один год (с 1837-го по 1858-й) его сибирской жизни придётся на этот медвежий угол. В поисках уединения жил в Зерцалах, станице Белый Яр, селе Красная речка, деревне Коробейниково. Населённые пункты на небольшом пятачке расположены, в каждом с дядей Афанасием довелось побывать.
Не простой был старец Феодор. Не один раз посещал его в этих сёлах епископ Иркутский Афанасий, встречался с ним святитель Иннокентий Московский, известный тем, что просвещал в христовой вере Америку и Дальний Восток.
Места у спиртзавода таёжно-живописные. Саянский хребет Арга река Чулым огибает. У дяди дома четыре дочери, коим даром не нужны охота с рыбалкой, а мне только давай из ружья пострелять, рыбу половить, по тайге пошастать. С дядей оказывались в таких местах, ни за что не пройти, только прорубаться. Вот где, понял, что такое непролазный лес. А грибы… Точно – косой коси. Дядя хохочет: «Да остановись ты!» А я не могу, режу-режу. Впору брать литовку: эх, раззудись плечо. Грузди, как на картинке… И столько вокруг тебя… Не одну бочку можно засолить…
Позже, когда читал «Угрюм-реку» Шишкова, воображение рисовало таёжные картины романа на основе виденного в путешествиях с дядей: поросшие лесом высоченные берега Чулыма, пустынные плёсы, тайга нетронутая.
Однажды летим на моторке, дядя резко сбросил скорость:
– Санька, смотри!
Лось плывёт с одного берега на другой. Гордая голова над водой… Мощный, величественный…
Дядя Афанасий шоферил, однажды взял с собой, долго ехали, вдруг говорит:
– Закрой глаза.
Закрыл.
– Открывай!
Открыл и себе не верю – я на Украине. Доводилось бывать в хохляндии, с отцом ездили к родственникам. Вдруг в Сибири, в тайге беленые крепкие хаты, именно хаты, тын из прутьев с кринками да макитрами. Ворота в яркие цвета окрашенные – синие, зелёные… Широкая выметенная улица и люди в украинской одежде. Будний день, они в вышиванках, жилетках расписных, у женщин головы по-украински платками повязаны… Дедок у ворот в широкополой соломенной шляпе, шароварах. Где та Украина, и где Сибирь, а поди ж ты… У магазина остановились, дядя заскочил за папиросами, я на землю спрыгнул из кабины… Осталось ощущение: все вокруг ладные, девушки кровь с молоком – румянец на щёках… Будто какое-нибудь кино «Свадьба в Малиновке» сниматется…
– Переселенческое село, – пояснил дядя, отъезжая от магазина, – ещё до революции хохлы сюда приехали, и получилась маленькая Украина в нашей глухомани. И ведь молодцы – посмотри, всё чистенько, ровненько, ухожено. Крепко живут.
В Белый Яр ездили с дядей Афанасием за мёдом.
Пасечник, весёлый, разговорчивый мужичок, поставил передо мной большую миску сот:
– Ешь, толстей, только что срезал.
Тут же прилетела оса. Пасечник сбил её тыльной стороной ладони.
Соты плавились светло-коричневым мёдом. Брал их руками, облизывал, высасывал из воска вкусноту, пальцы сделались липкими. Уже вроде бы наелся, но снова рука тянулась к миске.
– На животе, поди, мёд выступил, – серьёзно сказал пасечник.
Я хихикнул.
– Нет, ты посмотри-посмотри, – настаивал с озабоченным лицом. – Такое часто бывает с моим мёдом.
Я испуганно задрал рубашку.
Пасечник с дядей Витей громко захохотали.
– Лопай, не бойся! – подбодрили.
Мужики выпили по два стакана медовухи, пасечник был из интересных говорунов. Запомнился его рассказ, как старший брат вернулся с войны.
«Мне восьмой год шёл. Толю и не помнил, на пятнадцать лет старше, его в сорок первом призвали. Летом сорок третьего в огороде горох рву, мама как закричит в ограде, да так страшно, так сильно – похоронку вручили. Через месяц от Толи письмо пришло из госпиталя – ранен. Демобилизовался в июле сорок пятого. Я у деда на пасеке жил, вдруг Толя в гимнастёрке, с медалями заявляется. Дед засуетился, старенький был, но крепкий ещё. В домик зашли, дед давай потчевать внука. Толя попить захотел, жара стояла. “Деда, – просит, – у тебя вода сладкая, набери ковшик. В степи однажды лежим под палящим солнцем, ждали наступления немцев. Воды ни капельки, лежу и мечтаю, вот бы к деду на пасеку, его водички испить”. Дед меня послал на колодец. Я рослый был, а ума нисколько. Дед только-только мёд накачал, без малого полное ведро в сенях стояло. Я хвать его и вылил в колодец, чтобы сладкой воды для брата набрать».
Читал про Феодора Томского и видел Зерцалы, Белый Яр, спиртзавод. И волнение брало – Бог сподобил побывать в местах, освящённых молитвой старца.
Ознакомившись с жизнеописанием святого, стал искать икону с его образом. Спросил в православном магазине – нет, на епархиальном складе – нет.
Улетая в Москву, в аэропорту подошёл к киоску сувениров, глядь – образок Феодора Томского. Купил, а возвратившись из Москвы, поехал к батюшке Савве, попросил освятить.
Поставил иконку в свой домашний иконостас.
Молясь святому, просил о встрече с ним.
Никоим образом моя жизненная география не касалась Томска, вдруг выплывают стулья.
Говорю сотрудникам:
– Вот вам случайная неслучайность. Кто-то скажет, совпадение, я говорю: Феодор Томский услышал мою просьбу.
Всем сотрудникам привёз из Томска его иконки.
Феодор Томский стал для меня одним из самых дорогих и близких святых. Сергий Радонежский помогал воцерковляться. Благодаря ему понял, что такое сугубая молитва святому: искренняя, от сердца – будешь услышан. Николай Угодник помог избавиться от смертного греха. Об этом далее отдельно расскажу. Близость Серафима Саровского почувствовал в Дивеево, Матрона Московская на примере сына, когда его похмельного вышвырнула из храма, показала, что она рядом с нами. Ксения Петербуржская – пример нечеловеческого подвига во имя Христа. Феодор Томский – тоже за пределами мирского понимания.
Нет сомнений: Феодор Томский – это Александр I, Александр Благословенный. Есть тому множество доказательств. В 1825 году не Александра I похоронили в Петропавловском соборе.
Человек был на вершине мирской славы, монарх мирового значения. Замешанный на сто процентов на гордыни Наполеон Бонапарт считал себя властелином мира. Александр I разбил безбожника, этого осквернителя церквей, в котором современники видели антихриста. Разбил непобедимую армию и триумфально вошёл в Париж. Французы боялись, «русские варвары» будут преисполнены мести за сожжённую Москву и тысячи загубленных французами жизней, начнутся насилия и грабежи. «Русские варвары» были галантны, офицеры свободно говорили по-французски, а если и кутили в ресторанах, то не задарма, платили сполна…
Царь-победитель не стал требовать головы Наполеона, суда над ним, показательной казни. Он, а не Наполеон стал истинным властелином мира. Великодушным и милостивым.
И вдруг властелин уходит из мира. Стоит только сравнить великолепие Зимнего, Екатерининского, Павловского дворцов и дом крестьянина в Белом Яре, ветхую келью в Зерцалах, сооружённую из овечьего хлева. Царские палаты и деревянная скамья вместо кровати с балдахином, а под головой не подушка из лебяжьего пуха, а берёзовый чурбак. Всемирная слава, почёт всех царских и королевских дворов Европы, и наказание плетьми за бродяжничество. Величайший монарх пришёл к мысли, никакие победы не спасут душу, отягощённую грехом участия в заговоре против отца, против помазанника Божьего. Грех отцеубийства можно искупить лишь молитвенным подвигом. Если будет на то воля Божья.
Я исподволь вёл миссионерскую работу не с одними сотрудниками своего филиала, директоров других филиалов личным примером приобщал к церкви. Нас головная фирма собирала в Москве практически каждый месяц, а то и не один раз. Учёбы, совещания, выставки. Такого не помню, чтобы в Москве не выкроил время для храма. Со временем коллеги стали присоединяться. Глядя на меня, преодолевали дурацкую стеснительность, на колени на литургии вставали.
Однажды вот также несколько директоров пошли со мной на службу. У меня со всеми были хорошие отношения, с директором новосибирского филиала Максом Цаплиным по сей день перезваниваемся, с праздниками поздравляем друг друга. Макс – моя печаль, в церковь с нами ходил, но так и остался некрещёным. Когда начинал ему говорить, отвечал:
– Внутри созрею – покрещусь.
Давить на него не давил, только что предупреждал:
– Можешь не успеть.
Про Вову Самарского рассказывал. Алла Басова из Нижнего Новгорода, наполовину татарка. Броская внешность, но властная, кремень. А если что – огонь. Из журналистики в бизнес пришла. Раза четыре замуж выходила, трое детей, все при ней. С ней был случай, это уже предприятие наше закрылось. Пишет мне по электронке – у дочери опухоль. Я обзвонил директоров, большинство подключилось, деньгами помогали, докторов искали. Слава Богу, обошлось, опухоль оказалась доброкачественной.
Было одно исключение в нашем директорском корпусе – Петя Гейц из Казани. Макс Цаплин говорил: «В семье не без Гейца». Никакой Петя не Гейц – «девичья» фамилия Кокоулин. В сорок лет ударило в голову: с такой неблагозвучной далеко не уедешь, надо менять. Заодно с фамилией и жену обновил, была русская, дочку с ней народил, взял немку. Песенный Степан Разин ночь с княжной провождался, «сам наутро бабой стал», а Петя стал Гейцем на берегах той же Волги.
Спокойно, даже с гордостью говорил, что у второй жены мать колдунья.
Не помню, какой был праздник, нас человек восемь директоров пошли в церковь. Гейц с нами. Водосвятный молебен. Батюшка кропит прихожан. Мы группкой стоим, щедро в нашу сторону раз да другой кропилом махнул. Все улыбаются, хорошо. Смотрю, у Гейца глаза затравленно бегают, а когда святой водой попало, как вскрикнет и бежать из храма.
В гостинице хихикает: от неожиданности вскрикнул.
Не стал ему говорить, в Дивеево был свидетелем, некоторые паломники кукарекали при выносе святынь.
В конечном итоге аферистом Гейц-Кокоулин оказался. В обход бухгалтера набрал предоплаты от клиентов, очень даже приличную сумму, и уволился. Заказчики приходят через месяц: где наши кухни? Им: а кто вы, собственно, такие?
Если учесть, что, сажем, среди моих заказчиков были местные министры, заместители губернатора, олимпийские чемпионы, звёзды хоккея, вопрос «кто вы такие?» для них даже не красная тряпка для быка. Мебель-то элитная.
Гейц тем не менее вышел сухим из воды. В КПЗ посидел, от зоны сумел каким-то образом открутиться.
Ещё до этой махинации занял у меня денег. Чувствовал я, что-то не то. Но сказал себе – отринь подозрения, не кто-нибудь, товарищ просит. Он сначала обещаниями кормил «счас-счас перечислю», «завтра, в крайнем случае – послезавтра», потом и вовсе трубку перестал брать. Да не на того попал, достал я его – вернул долг.
А ещё хочу поведать вот о чём. Про главного бухгалтера рассказывал, как ездили в Троице-Сергиеву лавру и чуть не опоздали на самолёт. Заходит она ко мне в кабинет и рассказывает жуткую историю, происшедшую с Галей Ситниковой, та постоянно помогала нам по рекламе. У Гали одиннадцатилетняя дочь Полина. Заболел живот, вызвали скорую, врач дал таблетку и уехал. Девочке легче не стало, на следующий день снова вызвали скорую, снова ничего не определили, только вечером увезли в больницу и сделали операцию. Перитонит.
– Галке сказали, – бухгалтер чуть не плачет, – с операцией опоздали, надейтесь на Бога.
Выслушал её и подумал: женские эмоции. Конечно, бывают тяжёлые случаи с аппендицитом, но неужели вопрос может стоять о жизни и смерти.
– Пусть, – говорю, – закажут сорокоуст, молебен.
Бухгалтер на следующий день заходит:
– Александр Иванович, Галка вообще в истерике. Сделали вторую операцию и сказали: «Мамочка, всё может быть».
Я завёлся.
– Звони, – говорю, – Гале, пусть заедет в салон.
Часа через два прилетела, начала сбивчиво рассказывать, перебиваю:
– Почему ты пустила всё на самотёк, не сидишь в больнице?
– Реанимация, меня не пускают.
– Плевать, твой ребёнок лежит, ты должна быть рядом. У моей дочери в полтора года фурункул под ухом был. Врачи у меня строем ходили. Потом, конечно, извинялся за излишнюю резкость. А куда деваться! Сколько случаев, вовремя не подошла медсестра или доктор – и всё. Три года назад имел опыт, у лучшего друга Володи Долгачёва инфаркт был. Приехал с дачи, пошёл погулять с собачкой, по дороге плохо. Мужику пятидесяти не исполнилось – умер! Вызвали «скорую», увезли его, а был воскресный вечер, через два часа позвонили: забирайте. Тот случай, когда вовремя не подошли, не начали бороться за жизнь.
Володя – тоже моя боль. Так и не дотянулся до исповеди, причастия. Атеистом не был, мне иконы дарил, а сам до церкви не дошёл. Без покаяния, причастия отошёл ко Господу. Где он, куда попал? Праведником не был. Только официально женился три раза, дети от двух жён…
Начал Галю накачивать, ни в коем разе не расслабляться, вожжи крепко держать в своих руках. Кто-то из родственников постоянно должен сидеть в больнице. Сама, муж, бабушки. На собственной шкуре испытал. У мамы был инсульт, не отходили от неё – сёстры мои, я. Следили, когда какое лекарство принимать должна. Шесть раз за руку ловили, не то лекарство приносили. Доктор новое назначил, она даёт которое отменил. Не преувеличиваю, не один, шесть раз путаница была с лекарством. Поэтому нужен жёсткий контроль, и врачи должны знать это.
Потом решили забрать её домой. Машину больница выделяет. Я готов был их разорвать – катафалк прислали. Разорвать не разорвал, но отчитал. «Вы бы ещё, – говорю, – гроб выделили вместо носилок, чтобы домой с машины доставить». Через пятнадцать минут «скорую» прислали.
– Человек по своей сути разгильдяй, – настраивал Галю. – Они могут плакаться, что зарплата маленькая, пятое-десятое, это тебя не касается – твоя дочь в тяжелом состоянии. Ни на кого не надейся! Делай всё, что можешь! Вбей себе это в голову! Не успокаивайся, что она под присмотром врачей!
Дальше повёл разговор о грехах родителей, из-за которых страдают дети. Рассказал о своём опыте. Когда я начал перечить отцу Савве, мол, разве венчание это обязательно, батюшка сказал:
– Обвенчайся, потом увидишь.
У меня сыновья школу бросали, а мы и не знали. Утром вроде как на уроки, сами по улицам шляться. После того, как мы обвенчались с женой, не сказать, что исправились в корне, но точно – дури меньше стало.
Рассказал Гале о своих ошибках, чтобы легче ей было… Потом спрашиваю:
– Вы с мужем крещены.
– Да.
– Причащались, исповедовались?
– А что – надо?
– Венчаны?
– Нет.
– Представляешь, сколько ваших грехов на ребёнке! Если хотите, чтоб выкарабкалась, старайтесь сделать всё от вас зависящее, чтобы ей легче было. Снимаете с себя грехи исповедью, причастием, пусть ребёнок их не тащит. Не откладывайте, готовьтесь и завтра-послезавтра на исповедь и причастие.
Муж у неё Володя, хороший парень, юрист. Тоже ко мне приехал, и ему объяснил.
– Вам даже врачи говорят: надежда – на Бога! Но вовсе не значит, должны сидеть и ждать Его милости!
Поговорил с ними и начал обзванивать директоров филиалов. Палкой, думаю, никто не огреет, если попрошу. Позвонил в Самару, Новосибирск, Волгоград, Нижний Новгород. Попросил заказать сорокоуст о здравии рабы Божией отроковицы Полины.
Допускал, кто-то поленится пойти в храм, но в основном закажут. Когда болела мама, тоже так делал. И когда умерла. Сам в течение сорока дней ежедневно заказывал панихиду, по возможности старался три-четыре раза в неделю присутствовать на ней. Директором был, легче вырваться. Дней двадцать со дня похорон проходит, сестре Татьяне снится мама – ходит по дому и поёт: «Со святыми упокой…» Сама счастливая… Сестра ей: «Мама, ты что поёшь? Это ведь для мёртвых поют». Она: «Да? А мне очень нравится!»







