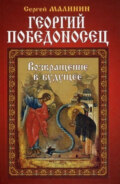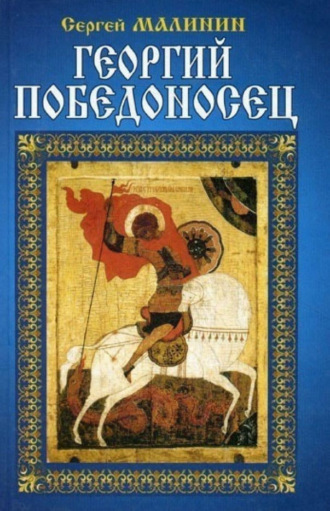
Сергей Малинин
Георгий Победоносец
Да только боярин Долгопятый – это тебе не дворня, его на мякине не проведёшь. В Бога-то он, конечно, веровал, как умел, а коли в Бога веруешь, так уж, будь добр, и чудес Его не отрицай. Однако же странно ему показалось, что Господь перстом Своим указал не на особу духовного звания, не на князя и не на боярина (вот хоть бы и на него, Гаврилу Алексеевича), а на Ваську Камыша – холопа, во грехе от дворовой девки зачатого и нравом лютого, яко злой татарин.
Оборвал он тиунову речь, до конца не дослушав, и к дружинникам, что с Камышом беглого холопа ловили, да не поймали, оборотился.
– Так ли было? – спрашивает.
– Так, истинно так, – вразнобой отвечают.
А сами глаза отводят. Народ-то простой, воинского звания. С мечом, с копьём, с луком ли, с топором либо, опять же, с конём необъезженным всяк из них совладает, а вот кривду всесильному боярину прямо в очи говорить – тому не обучены.
Поглядел Гаврила Алексеевич, как они мнутся, бороду в горсть забрал и глаз этак нехорошо сощурил.
– Ладно, – говорит, – это мы сей же час сведаем, так было или не так. Артамошка! – кричит. – Дыбу готовь, клещи и иной наряд, какой у тебя имеется!
Гаврила Алексеевич, боярин Долгопятый, по доброте душевной всегда под рукой заплечных дел мастера держал. Назывался сей аспид кровожадный Артамошкой и был не сказать, чтоб таким уж великим мастером своего ремесла. Однако дело своё любил и спуску никому не давал. Да и потом, дыба – она и есть дыба: на неё просто издалека поглядеть, и то язык сам собой развяжется.
Но дружинникам, всему десятку, что по лесу за Петрухой Замятиным гонялся, в этот раз издалека дыбой полюбоваться не довелось – раз уж Гаврила Алексеевич решил душу отвести, пришлось поближе с нею познакомиться. И Камыша, хоть он и доводился боярину побочным отпрыском, чаша сия не минула – повис как миленький и так голосил, что в версте оттуда, на деревне, бабы вздрагивали и с перепугу крестились. Да и не одни только бабы, мужики тоже.
Они бы, болезные, и без дыбы всю правду сказали. Но говорить пришлось на дыбе, и рассказали они Гавриле Алексеевичу всё, как на самом деле было. Всю правду боярин узнал, только не было в той правде чести ни ему, ни тиуну, ни храброй боярской дружине.
Посему Ваську Камыша боярин порешил сразу же, как его с дыбы сняли. Да и из того десятка мало кто до зимы дожил – кто, от пыток не отойдя, дома на лежанке преставился, кто в речке потоп, кого на охоте медведь заломал. И кто его знает, сам ли боярин их всех извёл, чтоб лишнего не сболтнули, или была сие, в самом деле Божья кара за великий их грех.
И ведь, казалось бы, чем они провинились? Перед Господом – это да, был грех. А боярину-то что худого сделали? Да видно, и впрямь была в той иконе чудодейственная сила, через которую всякий, единожды её в руки взяв, по своей воле выпустить уж не мог – сам, единовластно, желал чудом обладать, в одиночку под десницей Победоносца укрываться. Может, потому Гаврила Алексеевич этак не по-людски себя повёл, а может, и по какой иной причине – кто ж его, боярина, ведает? А только всё истинно так и было, а не так, как у Долгопятых в дому из рода в род пересказывают. Брешут они, яко псы, а почто брешут, о том долго гадать не надобно: совестно им, вот и брешут.
Глава 3
Никитка Зимин зачарованно слушал рассказ старого дядьки Захара о делах, что творились в здешней округе, в знакомых с малолетства местах, двести с лишком лет тому назад. Воображение у десятилетнего отрока было живое, и всё, о чём говорил своим хрипловатым, надтреснутым по старости голосом дядька Захар, Никитка видел, будто наяву. Скакали на взмыленных гнедых лошадях, блистая железными шишаками, дружинники в кольчужных длинных рубахах, брёл по дороге босой, оставшийся без приюта монашек, почти что Никиткин ровесник, и бежал через лес, не разбирая дороги, деревенский пустозвон Петруха. Стоял на резном высоком крылечке, широко расставив ноги в мягких сафьяновых сапогах, боярин Гаврила Алексеевич, в Никиткиных грёзах как две капли воды похожий на нынешнего своего потомка и наследника боярина Феофана Иоанновича Долгопятого, и дюжие дворовые мужики, заломив руки, волокли в пыточный застенок ни в чём не повинных дружинников. Бегали над пышущими жаром углями мелкие вороватые огоньки, и калились в жаровне, понемногу наливаясь спелой пшеничной желтизной, страшные палаческие клещи. И над всем этим, как ясное солнце над кишащим кровожадными зверьми дремучим лесом, витал невыносимо прекрасный образ всадника на белом вздыбленном коне, пронзающего копьём свитого в тугие кольца змия.
– Дядька Захар, а дядька Захар! – сказал Никитка, когда утомлённый длинной былью старик умолк, сомкнув воедино вислые густые усы с седой клочковатой бородой. – А откуда тебе это всё ведомо?
Ключница Матрёна, которая что-то искала в большом, изукрашенном резьбой деревянном ларе у стены (а скорей, не так искала, как слушала, про что бает Захар), при этих словах повернула к ним широкое, разрумянившееся от усилий найти то, чего в ларе не было, лоснящееся лицо. Баба она была дебелая, налитая, вся в крепких, выпирающих даже из-под широкого сарафана округлостях, и на вид казалась твёрдой, как набитый каменными мортирными ядрами мешок. Нравом Матрёна славилась суровым и хмурым, так что Никитка ещё помнил своё удивление, когда, ненароком её коснувшись, обнаружил, что она вовсе не твёрдая и холодная, как каменный идол, а, наоборот, мягкая и тёплая, даже горячая, наподобие перины, долго лежавшей на лежанке русской печи.
– То-то, что неоткуда, – неодобрительно ответила она на заданный Захару вопрос. – Брешет, старый дурень, чего сам не ведает, зазря только молодого барина стращает.
Старый дядька, который уже приладился было задремать, вскинул седую голову, как боевой конь при звуке трубы.
– Кто брешет, я? – возмутился он. – Да про то всей округе ведомо! Прапрадед мой, царствие ему небесное, жену себе как раз из Луговой взял, а её-то дед аккурат в ту пору у Долгопятого боярина конюхом служил.
– И прадед твой брехал, и жена его пустое болтала, – непримиримо стояла на своём сердитая ключница. – Много ль конюху ведомо!
– Да уж поболе твоего! – не сдавался Захар. Его вислые усы сердито дрожали, длинный шрам через всю щёку, оставленный саблей крымчака во время давнего похода, заметнее проступил на потемневшем от прилившей крови морщинистом лице. – Скажи ещё, что и иконы нету!
Начинающаяся ссора Никитку нисколько не обеспокоила. И не потому, что он был жестокосерд или неразумен по малолетству, а потому, наоборот, что давно уж понял: старый дядька и ключница бранятся не по злобе, а потому лишь, что никак не могут промеж собой решить, кому из них он, Никитка, больше люб. Каждый из них при всяком удобном случае так и норовил переделать сделанное другим на свой лад. Ежели, к примеру, Захар молодому барину подушки на ночь взобьёт, так Матрёна после непременно придёт и, ворча притворно, взобьёт их сызнова, по-своему, и по-своему же, не так, как дядька, уложит в изголовье. А ежели Матрёна, скажем, Никитке мимоходом яблочко сунет, так Захар, в свой черёд, недоволен. Скажет: червивое-де, кислое, – отберёт и другое даст. А смешней всего, что яблочко-то, может, и другое, а всё с того же дерева.
– Отчего ж нету, – говорила тем временем ключница. – Есть икона, как не быть? Родовая, старинная, от прадедов по наследству. Сказывают, явилась она боярину Гавриле Лексеичу на пепелище Свято-Тихоновой пустыни…
– Ага, ага, – преисполняясь яду, закивал седой головой Захар. – Это вот самая сказочка и есть, коей Долгопятые из рода в род всех, кому слушать не лень, потчуют. Да этого бражника, волчища презубастого, ежели б он надумал в пустынь-то явиться, Господь скорей молнией бы по макушке приласкал, чем иконой чудотворной его, аспида, одаривать! А ведомо ль тебе, что Гаврила Лексеич образ сей чудотворный всю жизнь до самого своего последнего денёчка за занавеской таил? Так ни разу на него и не взглянул, молитвы святому заступнику не вознёс. А почто, знаешь? Боялся потому что. Ты, баба неразумная, мне не перечь, я-то ведаю, где правда, а где кривда!
– А ведаешь, так и помалкивай, – неожиданно тихо и, как показалось Никитке, печально сказала Матрёна. – Только что ведь сказывал, до чего долгий язык да короткий ум доводят, а и сам туда же!
Задиристые нотки из её голоса пропали без следа, и Никитка, хоть и не понял толком, о чём речь, нутром почуял: шутки кончились.
То же, по всему видать, понял и Захар. Шибко почесав в бороде узловатой коричневой рукой, он шумно, на всю горницу, вздохнул и так же негромко обронил:
– И то правда.
– То и нечего дитяти в уши ересь вводить, – победно заключила Матрёна и, громко стукнув напоследок тяжёлой крышкой ларя, тучной павой выплыла из горницы.
Разговор вышел какой-то непривычный, недосказанный, будто дворовые знали что-то такое, чего Никитке, дворянскому сыну, знать не полагалось. Недосказанность эта ему не понравилась, оставила в душе неприятный осадок. Да и кому понравится, когда взрослые, пускай себе и крепостные, говорят про тебя так, словно тебя здесь нет?
Обдумав всё это, как умел, Никитка совсем уже было собрался пристать к Захару с новыми расспросами – что, да как, да почему Матрёна вдруг решила, что ему таких вещей слышать не надобно, – но тут заметил, что старый воин, не раз и не два ходивший с батюшкой, Андреем Савельевичем, воевать крымчаков, разомлев на лившемся в подслеповатое слюдяное оконце утреннем солнышке, уже заклевал носом.
«Это важно», – подумал Никитка.
А и впрямь, важно. Дядька через минуту заснёт, да так, что его и пушкой не разбудишь. Матрёна-ключница ушла по своим делам – дел-то у неё, слава богу, хватает. Отца уж неделю, как вызвали в полк, а матери Никитка не помнил – она умерла, когда ему было всего два года от роду. Стало быть, приглядывать за ним некому.
Запахло свободой, и сейчас же придумалось, на что сию нежданную свободу надлежит употребить. Захаров рассказ всё ещё переливался внутри головы яркими красками. Краски эти были мрачноваты, но мальчишки во все времена и во всех народностях единым миром мазаны: всем им чем страшнее да таинственней, тем лучше. В Захаровой же были хватало и загадок, и страху, а посему её надлежало немедля, пока не забылось, пересказать верному человеку. Тем более что безвинно убиенный богомаз Илейка очень сильно кое-кого напоминал – не тонким станом, не златыми волосами и, уж конечно, не светлым ликом, который Никитке представлялся иконописным, прямо-таки ангельским, а своей способностью к рисованию.
Стёпка Лаптев с малолетства имел склонность, которая ему, крестьянскому сыну, была, в общем-то, и ни к чему: любил он, грешным делом, малевать всякую всячину – когда прутиком на песке, когда острым камешком на бревенчатой стенке сарая, а пуще всего – углем на белёном боку русской печки. За это последнее был он не раз и не два нещадно таскаем за уши; чубу тоже доставалось, однако занятия своего Стёпка не бросал, и мало-помалу все вокруг к этой его странности привыкли и драться да браниться не то чтобы совсем перестали, но как-то поутихли – притомились, что ли? А покуда они привыкали, Стёпка подрос, набил руку, и случалось уже так, что тятька, примерившись было съездить ему по уху за испорченную печку, застывал с занесённой для удара рукой, а потом крякал, шибко чесал в затылке и молчком уходил по своим делам, забыв задать сыну заслуженную трёпку.
Отрок он был роста немалого и, несмотря на юный возраст, изрядной силы. Сила эта, употребляемая пока что лишь для мелкой помощи по хозяйству, угадывалась и в прямом развороте по-мальчишечьи костлявых плеч, и в ухватке, с которой делал любую работу, и даже в том, как упрямо Стёпка наклонял лобастую русую голову, когда тятька, опять застав его с углем подле печки, брался за сыромятные вожжи.
Братьев да сестёр Стёпка Лаптев не имел. Почему так, знать ему не полагалось. Нельзя сказать, чтоб мамка с тятькой не старались. Старались, да ещё как, Стёпка своими ушами слыхал, как они по ночам пыхтят да охают, однако ничего у них не выходило – ну ровно вся их сила в одного Стёпку ушла. Он-то, конечно, крепким уродился, да только мало ему от того было радости. Работы в крестьянском хозяйстве вечно невпроворот, а рук-то всего три пары, и одна из них – Стёпкина. Так что в ответ на разговоры дворянского сына Никитки Зимина про то, что быть ему надлежит богомазом, и никем более, Стёпка только щекой досадливо дёргал: чего из пустого в порожнее переливать, когда ясно, что не бывать этому? Иконному письму учиться надобно; стало быть, родителей брось и ступай в монастырь. Монастырь-то – это ладно, а вот мать с отцом как же? Не молодеют ведь они, а работы в хозяйстве не убавляется. Никиткин отец, Андрей Савельич, конечно, барин не злой и даже добрый, особливо ежели с иными сравнивать, однако и он за Стёпкиного тятьку в поле не выйдет и худую крышу на избёнке поправлять не станет. Посему иконопись – это, конечно, дело хорошее, богоугодное, однако и на земле кому-то работать надобно.
Никитка всё это знал, поелику про то меж ними говорено было не единожды, и дрались они из-за этого, к единому мнению не придя, тоже частенько. Однако же позволить Стёпке зарыть в землю немалый, как ему представлялось, талант, тоже не хотел – жалко было до слёз. Кабы Андрей Рублёв не пошёл в иноки, а остался бы землю сохой ковырять, кто бы Святую Троицу написал, кто бы храмы Божьи дивными росписями размалёвывал, Господа славя? Или взять того отрока, Илейку, про которого дядька Захар сказывал. Он, поди, тоже мог бы в пустыни дрова колоть да капусту поливать, если б со всем усердием ремеслу не обучился.
С похвальной в его неразумном возрасте рассудительностью найдя в рассказе старого дядьки то зерно нравоучения, которое одно только и годилось для посева в не шибко чувствительной душе приятеля, Никитка утвердился в намерении сей же час, не откладывая, пересказать Стёпке всё, что услышал сегодня от Захара. Убедившись, что дядька крепко спит, движимый оным возвышенным намереньем, отрок выскользнул за ворота и, незаметно для себя самого мысленно приукрашивая и без того не слишком достоверную быль выдумываемыми на ходу красочными деталями, побежал кривой и пыльной деревенской улицей к дому Лаптевых.
* * *
Денёк у Стёпки нынче выдался куда как хлопотный. Завтра с утра тятька затеялся топить баню, а сие означало, что Стёпке надобно натаскать туда воды. Помимо того, ему, как и во всякий иной день, надлежало с утра наполнить речной водицей здоровенную дубовую бадью, из коей вечером, на закате, он же (а кто ещё-то, коли других детей в семействе нету?) каждый божий день поливал в огороде грядки.
Посему, будучи крепко занят, он ответил на приветствие набежавшего дворянского сына Никитки лишь коротким кивком да сопением, с коим тяжёлое дыхание вырывалось из его груди через упрямо сжатые губы. Он как раз волок от реки в горку два тяжеленных, блескучих от стекающей по бокам воды деревянных ведра. Вода плескала через край при каждом шаге, смывая с босых Стёпкиных ног беловатую пыль, которая немедля садилась снова, на мокром сразу превращаясь в тёмно-коричневую грязь. Солнце поднялось уже высоко, становилось по-настоящему жарко; на лбу у Стёпки поблёскивали бисеринки пота, а работы впереди оставалось, что называется, начать и кончить: воды для бани надобно много, а огород, особенно в жару, – это такая прорва, что, сколь в неё ни лей, всё мало будет.
Мигом смекнув, что к чему, ибо рос близко к земле и понимал крестьянскую нелёгкую работу, Никитка отобрал у приятеля одно ведро и засеменил рядом, подстраиваясь под широкий Степанов шаг. Малый он был не слабый, хотя, конечно, не такой здоровяк, как крестьянский сын Стёпка. Однако ведро оказалось уж больно тяжёлое, да ещё и идти приходилось в горку, так что, начав пересказывать Захарову быль, Никита сын Андреев очень скоро запыхался. Красочность и в особенности нравоучительность его повествования от этого сильно претерпели, так что, в очередной раз сбившись, он решил временно погодить с рассказом. Да и то сказать, где это видано, чтоб уважающий себя сказитель, пересказывая старинную быль, ещё и воду вёдрами таскал?
– И зачем это так нехорошо устроено, – пыхтя и отдуваясь, спросил он, – что с горки всё время налегке, с пустыми вёдрами бежишь, а ежели с полными, так непременно в горку?
– Кабы было наоборот, – малое время подумав, рассудительно сказал Стёпка, – так вода из речки сама бы в огород текла.
– Это бы хорошо, – дивясь, как это ему, дворянскому отпрыску, не пришла в голову такая простая мысль, протянул Никитка.
– Чего ж хорошего? – всё так же рассудительно возразил Степан. – Потопло бы тогда всё в огороде-то через барскую твою лень. А нет, так пришлось бы вёдрами оттуда воду вычерпывать и обратно в речку таскать. И опять в горку.
Ответа на это у Никитки не нашлось. В огороде они опорожнили вёдра в гигантскую, вкопанную в землю под ветхим навесом бадью, где впору было самим купаться. Глядя на неё, Никита вспомнил, как отец Афанасий, приходской священник, сказывал про дочерей древнего царя Даная, прозванных, по отцу, данаидами. Оные данаиды, будучи многогрешны, в наказание были поставлены наполнять водою бездонную бочку, и, заглянув в бадью, ещё и до половины не полную, дворянский сын Никита Зимин на миг ощутил себя одной из злополучных данаид – только, понятное дело, му-жеска полу.
Тем временем Стёпка, чтоб меньше бегать вверх и вниз, к реке и обратно, отыскал в сарае ещё одно ведро. Пока он там шарил, Никитка приметил прислонённое к стене под навесом коромысло – потемневшее до глубокого коричневого оттенка и до тусклого масляного блеска отполированное бесчисленными прикосновениями рук.
– А ты чего коромысло не взял? – поинтересовался он, невольно подражая неторопливой манере, в которой всегда разговаривал приятель. – С коромыслом-то оно сподручнее, а то вёдра, будь они неладны, бесперечь в ногах путаются да по коленкам бьют.
– Плечи саднит, – лаконично ответствовал Стёпка. – Не больно-то с руки, когда деревяшка по больному трёт.
– А давай, я тогда возьму, – предложил Никитка.
– Ну, нешто, возьми, – не стал спорить Степан.
– А что с плечами-то? – с некоторой неловкостью спросил Никитка, забрасывая на плечо коромысло и подхватывая вёдра. Неловкость он испытывал оттого, что знал: ответ на его вопрос висит на стене в конюшне и зовётся сей ответ сыромятными вожжами. Без Степанова тятьки тут явно не обошлось, и провинность, за которую Стёпка понёс наказание, была, надо думать, та же, что и всегда: опять он где-то без спросу нахудожничал.
– Царя на печке намалевал, – без особенной охоты признался Стёпка, подтверждая догадку товарища.
– Иоанна Васильевича? – ужаснулся дворянский сын.
– Зачем Иоанна? Просто царя. Ну, навроде сказочного. Верхами.
– И что? Драться-то зачем же? Впервой, что ли, печку перебеливать?
– Вот и я тятьке говорю: зачем? – Стёпка тяжко, по-взрослому, вздохнул. – А он мне: почто, говорит, змеёныш, у тебя царь на свинье верхами скачет? И – вожжами…
Никитка споткнулся, едва не скатившись кубарем с косогора вместе с коромыслом, на котором, покачиваясь, висели пустые вёдра.
– На свинье? Царь?!
– Да не свинья это, конь! – с обидой воскликнул Стёпка. – Нешто я виноват, что на печке места не хватило? Вот и вышли у коня ноги коротковаты, а тятька кричит: свинья…
Невзирая на суровые мучения, кои совсем недавно претерпел закадычный друг, выдержать сие было Никитке уже невмочь: он фыркнул, прыснул, опять споткнулся и, не устояв, покатился по травянистому откосу к речке, хохоча во всё горло и временами ойкая, когда тяжёлые вёдра, нагнав, поддавали куда придётся.
Они бродили вверх и вниз по косогору ещё часа два. Поначалу Никитка ни о чём не мог думать, кроме мук несчастных данаид, кои сейчас были ему весьма близки и понятны. Даже воспоминание о едущем верхом на свинье царе уже не веселило так, как вначале. Но постепенно он пообвык, втянулся и, почуяв второе дыхание, вернулся к прерванному рассказу о том, как живший два с лишком века назад боярин Долгопятый, пращур нынешнего Феофана Иоанновича, стяжал чудотворную икону святого Георгия. Памятуя о своём благонравном намерении наставить приятеля на путь истинный, основной упор рассказчик делал на фигуру убиенного отрока Илии, разрисовав и изукрасив сию фигуру сверх всякой меры – хоть ты к лику святых его причисляй.
На Стёпку, впрочем, сие украшательство видимого впечатления не произвело.
– Эка новость. Долгопятые – они все до единого такие. Сколь волка в овечью шкуру ни ряди, он всё одно крови алчет, – сказал он, оставив в стороне вопросы иконного письма и жизненного предназначения, коему, дабы Бога не гневить, надобно неукоснительно следовать.
Никитка почувствовал себя слегка задетым, ибо старательно приготовленное им для приятеля поучение пропало втуне, оставшись незамеченным. Стёпка явно выделил из рассказа совсем иное, а именно роль в тех давних событиях боярина Долгопятого, каковая роль, похоже, подтверждала нелестное мнение крестьянского сына Степана Лаптева о старинном боярском роде Долгопятых.
Сам Никитка никакого своего мнения по этому поводу не имел. Соседа своего, Феофана Иоанновича, он видывал редко – много, если три раза за всю жизнь наберётся, да и то издалека. Отца Никиткиного, худородного служилого дворянина Зимина, владевшего всего-то двумя небольшими деревеньками и обитавшего в тереме, мало чем разнившемся от крестьянской избы, Долгопятый не жаловал. До ссор, понятно, не доходило (станет ближний к царю боярин с худородным ссоры затевать!), однако, как не раз замечал Никитка, отец его, Андрей Савельевич, Феофана Иоанновича также недолюбливал. Другие-то соседи к Долгопятому так и льнули, рассчитывая через него царской милости добиться, а отец – иное дело. При встрече кланялся с надлежащим почтением, но и только.
О причинах этой глухой вражды Никитка по малолетству мог только догадываться. Ну вот слышал он, к примеру, краем уха от отцовской немногочисленной дворни, будто Феофан Иоаннович давненько уж метит у Андрея Савельевича деревеньку оттяпать – вот эту самую, в которой Стёпка живёт, да и сами Зимины тоже. Всяко пробовал, да ничего не вышло: деревеньку сию, равно как и соседнюю, Андрею Савельевичу сам государь за верную службу пожаловал. Тогда стал Долгопятый у Никиткиного отца имение, царём жалованное, торговать, да, видно, ничего не выторговал: на государевой службе кормление небогатое, особенно когда не воруешь, так что деревенька, не прогневайтесь, самим пригодится.
Этого Никитка, положа руку на сердце, понять не мог. Ну на что Долгопятому ещё одна деревня? Своих будто недостает! Вон они, долгопятовские земли, прямо за речкой – конца-края не видать, а всё мало. И чего гневаться, ежели не сторговались? Где это видано, чтобы то, что самим надобно, по принуждению за бесценок продавали?
Редко, а всё ж таки бывает, что, когда отцы в ссоре, сыновей водой не разольёшь. Да взять хотя бы того же Стёпку. Отец у него крестьянин подневольный, Зиминых холоп, а хозяйский сын с ним дружит. Так с чего бы мальцам одного, дворянского, звания не дружить? Им-то, поди, делить нечего!
Однако же дружбы с отпрыском Долгопятого, названным по деду Иоанном, у Никиты не вышло. Да и знакомства настоящего, можно сказать, тоже не было. Ну, виделись пару раз, в лицо друг друга знали – живут-то по соседству, как не знать! Был Ванятка Долгопятый Никитки всего на год старше, однако же нос драл так, словно это не отец его, а он сам в боярской думе заседает, пособляет государю державой править. Так и подмывало ему по этому задранному носу наподдать, да так, чтоб надолго запомнил.
И тут вот, как на грех, стоило Никитке об этом подумать, всё и закрутилось.
Спустились они со Стёпкой опять к реке за водой. Таскать уж всего ничего осталось – ходки три, не больше. Наполнили, стало быть, данаиды свою бездонную бочку, слава тебе Господи! Ещё чуток поднатужиться, и можно будет пойти поиграть, а то и упросить Стёпку, чтоб намалевал чего. Ловко всё же это у него получается! Жалко, что невмочь ему в монастырь идти, иконописному делу наущаться.
Только стали воду набирать, глядь, а на том берегу из кустов Ванька Долгопятый лезет. Да не один, с компанией – три, его самого не считая, дворянских недоросля, соседские, стало быть, сыновья. Ванька средь них самый младший, однако держится за главного – ясно, опять боярством своим кичится. Соседи-то хоть и дворяне, однако до Долгопятых им далеко, вот они спины и гнут – старшие перед отцом, отроки перед сыном.
Ну и, конечно же, Долгопятый Ванька Никитку с коромыслом на плечах мигом углядел, узнал – речка-то воробью по колено, её переплюнуть запросто можно, ежели не против ветра, – и ну куражиться! Ясно, смешно ему, что дворянский сын наравне со смердом воду из реки в огород таскает.
– Какие, – кричит, – вы дворяне, когда на вас холопы воду возят?
Подпевалы его, конечно, не отстают – орут наперебой, хохочут, свистят, улюлюкают. Потом затеяли грязью кидаться – зачерпнут подле самого берега со дна, где пожиже, и швыряют. Да всё норовят в лицо, чтоб обиднее было. Никитка, понятное дело, терпеть не стал – обозвал Долгопятого свиньёй в золочёном кафтане, боярином с поротым задом (ему, Ваньке, от отца крепко за любую провинность доставалось, так что тут Никитка аккурат по больному местечку угодил), зачерпнул полную ладошку грязи и в Долгопятого – шмяк! Так-то ловко получилось, весь кафтан заляпал, и на лицо брызги попали.
Краем глаза заметил, что Стёпка в баталии не участвует – стоит тихонечко в сторонке, руки опустил и голову повесил, только глазами из-подо лба поблёскивает. Никитка на него не обиделся: понимал, что холопу с боярскими да дворянскими отроками лаяться – только беду наживать. Наоборот, за Стёпку обидно стало, когда комок грязи, с того берега прилетев, об его чистую рубаху шмякнулся, а он только попятился да голову ниже опустил.
– Псы худородные! – Долгопятый Никитке кричит. – Из смердов вышли, смердами и остались! Землю ступайте пахать, жуки навозные!
А Никитка тоже в долгу не остаётся.
– Худой наш род или не худой, а всё получше вашего! – кричит. – Мы, Зимины, отродясь ворованным иконам не молились! Тати вы, а не бояре!
И чувствует: зря он это сказал. Ванька сам-то, может, и не поймёт, об чём речь, однако отцу своему непременно перескажет. Как бы худа не вышло!
Понял Иван Долгопятый, на что Никитка Зимин намекал, или не понял, однако осерчал крепко. Краской налился до самых корней волос и даже зубы от злости оскалил, ровно и не отрок старинного боярского рода, а упырь кровоалчущий, коему на погосте не лежится. Да оно и понятно: за всю жизнь он ни от кого, кроме, разве что от отца своего, боярина Феофана Иоанновича, слова худого не слыхал. Никто ему не перечил, а все, наоборот, угождали, кто чем мог. А тут вдруг этакая напасть – дворянский сын не шибко знатного рода татем обзывается и грязюкой с головы до ног забросал! Как же такое вытерпеть?
Он и не вытерпел.
– Я тебе сей же час покажу, кто боярин, а кто тать! – кричит. – Землю есть будешь, смерд! А ну, ребятки, бей их по чём ни попало!
Подпевалы его, друзья-приятели, и рады стараться. Ну, может, и не рады, однако перечить Ваньке Долгопятому не стали – никогда не перечили и теперь не стали. Так, в чём были, в речку и полезли. Река, и без того невеликая, сейчас по летнему времени совсем измельчала – истинно, воробью по колено. Воробью не воробью, а даже в самом глубоком месте, ближе к зиминскому берегу, самому низкорослому из Ванькиной компании, Алёшке Аникееву, вода едва до пояса доставала. Кинулись они в речку, да так, что брызги до самого неба полетели, и бегом на другой берег – Никитку со Стёпкой воевать. А крику да ругани столько – ну, будто татарва, как два века тому, налетела.
Видит Никитка, что дело и впрямь худо. Четверо ведь их, да не на двоих – на него одного, потому как Стёпке, мужичьему сыну, с дворянскими недорослями драться недозволительно. Намнут ему холку ни за что, а он и ответить не вправе – знай себе терпи.
– Беги, Стёпка, – Никитка ему говорит, – неча тебе в это дело вязаться.
– А ты? – Стёпка спрашивает.
Ну что тут ответишь? Одному супротив четырёх, ясно, не выстоять – побьют, в грязи изваляют и впрямь, того и гляди, землёй накормят. Однако ж от ворога бегать Никитку Зимина тятька с дядькой Захаром не обучили. Не в заводе это было у Зиминых – пятиться да супротивнику спину казать. И не в голове это у него, у Никитки, сидело, а в самом что ни на есть нутре – в крови, в мясе, в костях и во всём прочем. И хотел бы побежать, да не получается – ноги будто в землю вросли.
Так что Стёпке он ничего не ответил. Да и некогда уж было отвечать – набежали. Первым бежал Егорка Хлопушин – здоровенный, как Ильи Муромца конь, недоросль полных двенадцати годков от роду. Ежели хорошенько разобраться, так на десятилетнего Никитку его одного с головой хватило б – затем, видать, его Ванька Долгопятый вперёд и послал, чтоб самому на место поспеть, когда всё уж кончится, чтоб над слабым покуражиться, когда тот уже наверняка сдачи дать не сможет.
Видя такое лихое дело, подхватил Никитка с земли коромысло да и махнул по Егорке справа налево – не как попало махнул, а так, чтоб, упаси боже, ненароком голову не проломить. Так его тятька с дядькой учили: когда биться надобно, не гневайся, не горячись, в драке первое дело – голова, а руки и всё остальное – это потом; подумай сперва, а после бей, а кто в бою себя не помнит, тому первому и конец.
Егорка, не будь дурак, руками закрылся, и попало ему коромысло аккурат по локтю. Сильно попало – так, что гладкая деревяшка у Никитки из рук вырвалась и в сторону отлетела. Заорал Егорка Хлопушин благим матом и с размаху в воду сел, за ушибленный локоть схватившись, – коромысло, стало быть, по той самой косточке попало, которую если задеть, вся рука разом отнимается.
Следом Макарка Головатый – этому кулаком в зубы, без затей, чтоб знал, каково Зиминых за живое цеплять. Алёшку Аникеева просто руками в грудь толкнул, с того и стало – сел в воду рядом с Егоркой, только брызги полетели. Но, падая, Алёшка успел Никитку за рукав схватить и за собой дёрнуть. На ногах Никитка, конечно, устоял и рукав свой вырвал, однако, потеряв равновесие, сделал два шага вперёд и тоже в воде очутился. И не успел разогнуться, как набежавший Ванька Долгопятый съездил ему по уху кулаком, аж искры из глаз посыпались.
Тут, конечно, славная баталия кончилась, и началась свалка, в коей Никитке досталась весьма незавидная роль того, на ком все скачут и прыгают, как кому заблагорассудится. К этому он был готов заранее; жалко было только, что не успел главному своему обидчику, зачинщику всей драки Ванятке Долгопятому зубы пересчитать. Но это, решил он, ещё успеется, когда Ванькиных подпевал рядом не будет. У Бога дней много; погоди, придёт и на нашу улицу праздник! И так жалиться не на что: троим из четверых гостинца поднёс, и то ладно. Хотел он Долгопятого хоть за ногу укусить, что ли, да не тут-то было: он, пёс, в сапогах оказался, а юфтевый сапог, хоть и мягок, зубами не прокусишь, только грязи зря наешься.