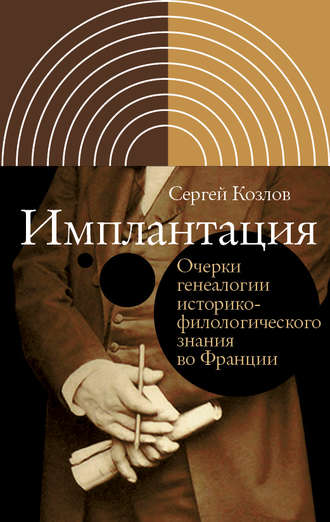
Сергей Козлов
Имплантация
«Приличный человек» vs. специалист
Вернемся в XVII век.
Приобретя подобные установки, выпускник был во многом подготовлен к успешному вхождению в ту социальную жизнь, которая ждала его за стенами коллежа. Образовательный стандарт иезуитских коллежей соответствовал требованиям, которые предъявляла к человеку главная статусно-символическая практика, отличавшая и объединявшая французские элиты XVII–XVIII веков, – практика светского общения. Эта практика подчинялась очень жесткой системе правил и ценностей, связанных со специфической моделью идеального человека. Модель эта обозначалась выражением honnête homme.
Honnête homme (в буквальном переводе – честный человек, порядочный человек, приличный человек) – типичный образчик размытого понятия. Как отмечают практически все исследователи этого понятия, оно отличается чрезвычайной неустойчивостью значения:
идеал honnête homme трудно очертить и определить: чем больше о нем говорят, тем труднее его увидеть. ‹…› Понятие honnête homme, казалось бы, всецело принадлежит сфере повседневного здравого смысла – и вместе с тем оно словно сопротивляется здравому смыслу, ибо единственное, на что оно имеет право, – это наброски, отступления, разрозненные замечания, которые все вращаются вокруг идеала honnête homme, притом что идеал этот так и остается не определенным твердо [Montandon 1995, 410–411].
При этом понятие honnête homme порождало во французской культуре массу интерпретаций с конца XVI по середину XVIII века (сегодняшний исследователь датирует «изобретение модели honnête homme» временем с 1580 по 1750 год – см. [Bury 1996]), поэтому всегда есть соблазн построить исследование этого понятия не вглубь, а вширь – как экстенсивный каталог различных концепций honnête homme (самый яркий пример такого экстенсивного описания – двухтомный труд Мориса Маженди: [Magendie 1925]).
Трудноопределимость и многозначность понятия honnête homme связана с тем, что эта семантическая конструкция по своей функции с самого начала являлась инструментом социальной классификации, идущей поверх безусловно признаваемых социальных барьеров. В статусном социуме, каким было французское общество при Старом порядке, социальный статус личности базировался на аскриптивных, т. е. предписанных от рождения признаках. Между тем весь смысл существования такой категории, как honnête homme, состоял в том, что эта категория устанавливала (хотя бы в ограниченном пространстве и на ограниченное время) новую социальную иерархию, не зависевшую ни от аскриптивных, ни от профессиональных признаков индивида. Понятие honnête homme фиксировало принадлежность человека к некоторой элите, но эта элита была произвольно заданной: ее выделение не основывалось ни на каких критериях, признаваемых всем обществом в целом. Понятие honnête homme было инструментом неформальной социальной классификации и, чисто теоретически говоря, могло служить символическому самоутверждению любой социальной группы (в пределах верхней половины социальной пирамиды тогдашнего общества). Обескураживающая разноплановость толкований понятия honnête homme, имевших хождение в XVI–XVIII веках, есть во многом не что иное, как отражение борьбы различных групп за символическое самоутверждение с помощью этого понятия.
Из всей пестроты фактов и всей разноголосицы мнений, связанных в XVI–XVII веках с понятием honnête homme, мы выделим лишь одну магистральную линию, важную для нашей темы.
В последней трети XVI – первых двух десятилетиях XVII веков (то есть в первый период своего функционирования) понятие honnête homme находилось по преимуществу в распоряжении той социальной группы, которую мы здесь позволим себе назвать «интеллектуалами раннего Нового времени».
~~~~~~~~~~~
В сегодняшней историографии существуют два подхода к использованию понятия «интеллектуалы». Один из них можно назвать специфицирующим, другой – генерализирующим. Согласно специфицирующему подходу, «интеллектуалы» – совершенно конкретное, исторически уникальное явление, возникшее во Франции в конце XIX века; сторонником такого подхода является Кристоф Шарль: см. хотя бы [Шарль 2005]. Генерализирующий подход насыщает понятие «интеллектуал» гораздо более общим содержанием и позволяет применять это понятие к разным странам и разным историческим эпохам: в этом смысле, например, говорят об «интеллектуалах Средневековья» Жак Ле Гофф [Ле Гофф 1997] и Ален де Либера [Либера 2004].
~~~~~~~~~~~
Коротко говоря, мы имеем в виду людей, заветным прибежищем для которых служила их домашняя библиотека. Всех их можно опознать по тому, с каким наслаждением они затворяются в своем кабинете, полном книг, а порой и иных любопытных предметов, достойных внимания и изучения. Во Франции XVI–XVII веков подобные интеллектуалы рекрутировались главным образом из судейского сословия, то есть преимущественно из кругов «дворянства мантии». Принадлежа к «дворянству мантии», они все были одновременно в той или иной степени включены в «республику словесности» – международную сеть интеллектуального общения, не признававшую национальных и конфессиональных границ (см. [Bots, Wacquet 1997]). Личные ценностные установки каждого из этих интеллектуалов складывались под влиянием взаимоналожения двух ценностных систем, одна из которых была присуща «дворянству мантии», а другая – «республике словесности». Так, важнейшей ценностью, которая культивировалась в рамках «республики словесности», было дружеское общение людей, близких по духу (см. об этом [Miller 2000, 49–75]). Именно о таком типе общения и именно о таких «приличных людях» пишет Монтень:
Люди, общества и дружбы которых я постоянно ищу, – это так называемые приличные [honnêtes] и неглупые люди; их душевный склад настолько мне по душе, что отвращает от всех остальных. ‹…› В наших беседах любые темы для меня равно хороши; мне безразлично, насколько они глубоки и важны; ведь в них всегда есть изящество и приятность; на всем заметна печать зрелых и твердых суждений, все дышит добросердечием, искренностью, живостью и дружелюбием. Не только в разговорах о новых законах наш дух раскрывает свою силу и красоту и не только тогда, когда речь идет о делах государей; он раскрывает те же самые качества и в непринужденных беседах на частные темы.
‹…› Если ученость изъявляет желание принять участие в наших дружеских разговорах, мы отнюдь не отвергаем ее – разумеется, при условии, что она не станет высокомерно и докучливо поучать, как это обычно бывает, а проявит стремление что-то познать и чему-то научиться» [Монтень, III, 37–38]. (Пер. А. С. Бобовича).
Тут нужно обратить внимание на одну тонкость. С одной стороны, Монтень подчеркивает, что в беседе «приличных людей» ученость вполне допускается, но она должна знать свое место. Такая установка не может не напомнить об «умеренности», которой требовали иезуиты в отношении учености. Но, с другой стороны, важно держать в голове, что здесь с требованием равноправия разных тем дружеской беседы выступает не салонный завсегдатай, а человек, не терпевший светских церемоний и обременительной учтивости, постоянно погруженный в чтение и более всего стремившийся к уединению в своей библиотеке (обо всем этом Монтень говорит в том же 3-м очерке 3-й книги «Опытов»). Монтень был во многих отношениях не самым типичным представителем «республики словесности» – и тем не менее типологически он всецело принадлежит к этому социальному множеству. Понятие honnête homme используется Монтенем для оправдания практики неформального общения ученых людей.
Не можем удержаться от того, чтобы не процитировать здесь – не в первый и далеко не в последний раз – Ренана. Ренан рассматривает культурную позицию Монтеня в контексте всей последующей французской культурной традиции:
Монтень, представляющий собой во многих отношениях выдающийся образец французского духа, особенно характерен тем ужасом, с которым он отшатывается ото всего, что напоминает педантизм. До чего же он забавно красуется, изображая из себя непринужденного светского человека, который ничего не понимает в науках, но знает все, хотя ничему не учился. ‹…› Он, однако же, старается показать, что разбирается в этом не хуже любого другого, и демонстрирует все признаки эрудиции, могущие сделать ему честь. Лишь бы только мы помнили, что он не придает им никакого значения и стоит выше всего этого педантизма. Он хвалится тем, что ничего не удерживает в памяти и что отличается способностью к забвению ‹…› потому что памятью отличаются именно эрудиты. Короче говоря, это целая маленькая система жестов, позволяющих тому, кто к ней прибегает, высокомерно отстраниться от достоинств ученого человека и приписать себе достоинства человека здравомыслящего и остроумного, – система, которая в высшей степени характерна для французского духа и которую г-жа де Сталь с такой тонкостью назвала педантизмом легкомыслия [Ренан 2009, 82–83, со значительными изменениями].
Как видим, Ренан выявляет фактически ту же двусмысленность культурного поведения Монтеня, о которой чуть выше говорили мы. Но Ренан делает акцент на типических сторонах позиции Монтеня для всей французской культуры, тогда как нам важно здесь подчеркнуть аспект прямо противоположный: аспект специфический, сближающий Монтеня не со всей элитарной французской культурой, а с ограниченной, исторически конкретной социальной группой. Повторим еще раз: в своем воинствующем антипедантизме Монтень действительно напоминает будущих салонных говорунов – и тем не менее сам он, при всех атипичных моментах своего культурного поведения, всецело принадлежит к «республике словесности». Его идеалом является дружеское общение ученых людей.
Пройдет всего лишь сорок лет, и культурная ситуация решительно изменится. Как отмечает Питер Миллер [Miller 2000, 68–69], к концу 1620‐х годов во Франции над идеалом ученого общения возобладал идеал куртуазной общительности. Тип ученого переставал быть примером личностного совершенства. На смену ему шел тип светского человека. Это означало смену пространств общения. Ученое общение (сколь бы неформальным оно ни было) протекало в пространстве академии, библиотеки или кабинета. Светское общение происходит в пространстве салона. Ученое общение было целиком мужским; в центре салона находится женщина. Соответственно, ученое общение было неразрывно связано с владением латынью и древнегреческим; светское общение всецело опирается на французский язык. Понятно, что ученое общение было серьезным, минимизировало роль изящных манер, делало акцент на содержательной стороне диалога и было чуждо самой идее моды. В сравнении с ним салонное общение является поверхностным, делает акцент на формальном изяществе манер и речи, а также ставит моду в самый центр общих интересов. Разумеется, не следует понимать дело так, что кабинетное общение попросту отмирало и замещалось салонным. Речь идет о другом: об авторитете, престиже и влиянии. В эпоху Людовика XIII салоны постепенно выдвигаются в центр культурной жизни и начинают прямо и опосредованно диктовать элитам соответствующие правила поведения. Соответственно ученое общение постепенно утрачивает свою прежнюю роль авторитетного культурного образца.
Миллер иллюстрирует противоположность ученого и светского общения сопоставлением двух современных друг другу культурных пространств: так называемого «кабинета» братьев Дюпюи и салона маркизы де Рамбуйе. Он завершает это сопоставление чрезвычайно важной констатацией:
Контраст между кругом Дюпюи и кругом Рамбуйе является столь наглядным оттого, что в обоих этих сообществах акцент делался на дружбе, беседе, переписке и учтивости – однако все эти слова обозначали в двух случаях весьма различные вещи [Op. cit., 69].
Оба сообщества делали акцент на одной и той же идеологии «приличного человека» – но эта идеология отсылала в двух этих случаях к двум различным разновидностям культурной практики. И, по мере того как светское общение получало перевес над кабинетным, идеология «приличного человека» все более и более отождествлялась с миром салонов. Под «приличным человеком» все чаще по умолчанию понимается человек светский, проявляющий себя в салонной беседе.
Идеал «приличного человека» как человека светского окончательно утвердил свою культурную гегемонию, начиная с 1660‐х годов – в эпоху Людовика XIV, означавшую максимальное сосредоточение политической и культурной жизни страны вокруг королевского двора. Торжество светской разновидности «приличного человека» стало результатом альянса трех социокультурных групп: 1) придворных (прежде всего – придворных любителей словесности); 2) части священнослужителей (сюда входили в первую очередь иезуиты); 3) той части литераторов, которая делала ставку на отграничение изящной словесности от прочих видов словесности (т. е. от наук и искусств). Творчество этих литераторов было ориентировано на «публику», то есть на «Двор и Город» (о содержании этого составного понятия см. [Ауэрбах 2000, 331]; [Auerbach 1998, 115–181]). Объединив свои усилия, три эти группы смогли во второй половине XVII века окончательно оттеснить на периферию культурной жизни тот тип автора (и, соответственно, тот габитус), который был во Франции наиболее уважаемым на протяжении XVI и первой трети XVII столетия. Это был восходивший к ренессансному гуманизму тип полигистора-энциклопедиста, пишущего в самых разных жанрах, на самые разные темы, но чаще всего на латыни; в продукции авторов этого типа, как правило, был заметен интерес к филологическим вопросам. В плане социального происхождения эти старые авторы «энциклопедического» типа были, как уже говорилось выше, тесно связаны с парламентским, т. е. судейским, миром (и, следовательно, дистанцированы от королевского двора; напомним между прочим, что парижский парламент был важнейшим очагом Фронды); в церковном плане они были связаны с галликанской традицией (т. е. противостояли Риму, а следовательно, и иезуитам – хотя многие из авторов этого типа были воспитанниками иезуитских коллежей); в творческом же плане, как уже говорилось, главной референтной группой для этих интеллектуалов выступала не «публика», не «Двор и Город», а «республика словесности», т. е. идущая поверх государственных границ транснациональная сеть ученых кружков и ученых одиночек, поддерживающих между собой специализированную коммуникацию путем переписки.
Таким образом, понятие honnête homme было перехвачено у интеллектуалов светскими людьми. Теперь забудем на время о разнице культурных практик и о борьбе социальных групп. Обратимся к дискурсу, к высказываниям об идеале «приличного человека». Сколь бы ни были разнообразны эти высказывания, к каким бы культурным практикам они ни отсылали, есть одна тема, красной нитью проходящая через дискурс об honnête homme. Это тема деспециализированности приличного человека.
Мы уже видели, что Монтень делал особый акцент на равноправии любых тем в контексте беседы «приличных людей». Никакая тема – в частности, никакая ученая тема – не является привилегированным предметом таких бесед, не может требовать для себя заведомо особого статуса в такой беседе. Сравним с этим мнением Монтеня несколько других высказываний – относящихся уже не к XVI веку, а к середине XVII века.
Паскаль, «Мысли»:
Хорошо, когда кого-нибудь называют не математиком, или проповедником, или красноречивым оратором, а просто приличным человеком. Мне по душе только это всеобъемлющее свойство. Очень плохо, когда при взгляде на человека сразу вспоминаешь, что он написал книгу. Я бы хотел, чтобы столь частное обстоятельство всплывало в памяти, лишь когда речь заходит об этом обстоятельстве (Ne quid nimis), иначе оно подменит собой человека и станет именем нарицательным; пусть говорят, что человек искусный оратор, только если дело касается ораторского искусства ‹…› [Паскаль 1974, 119].
В свете не прослывешь знатоком поэзии, или математики, или любого другого предмета, если не повесишь вывески «поэт», «математик» и т. д. Но человек всесторонний не желает никаких вывесок и не делает различия между ремеслом поэта и золотошвея.
К человеку всестороннему не пристает кличка поэта или математика и т. д., он и то и другое и может судить о любом предмете. Но это никому не бросается в глаза. Он легко присоединяется к любой беседе, которую застал, вошедши в дом. Никто не замечает его познаний в той или иной области, пока в них не появляется надобность, но уж тут о нем немедленно вспоминают; точно так же не помнят, что он красноречив, пока не заговорят о красноречии, но стоит заговорить – и все сразу вспоминают, какой он хороший оратор.
Стало быть, когда при виде человека первым делом вспоминают, что он понаторел в поэзии, это отнюдь не похвала; с другой стороны, если беседа идет о стихах и никто не спрашивает его мнения – это дурной знак [Указ. соч., 118]. (Пер. Э. Л. Линецкой)
Шевалье де Мере, «Посмертные сочинения»:
Приличный человек – это не профессия; ‹…› приличный человек не привязывается ни к чему в особенности; он стремится лишь достойно жить и обходительно общаться [с другими приличными людьми] посредством речей и действий ‹…› в обыкновенной жизни, все, что имеет отношение к профессиям, ощущается как неприятное. Не то чтобы галантный человек не должен был ничего говорить о большей части искусств – лишь бы он говорил о них как светский человек, а не как ремесленник; но для приличного человека настоящая беда, если по лицу или по обхождению он будет принят за человека какой-либо профессии, и если такое несчастье случится, приличный человек должен любой ценой заставить забыть первоначально произведенное им впечатление. Отсюда не должно заключать, что, когда ремесленник занимается своей профессией, ему следует скрывать ее; наоборот, чем более искушенным в своей профессии он считается, тем более он уважаем, ибо к мастерам относятся с почтением; презирают же подмастерьев. Чем более красноречив в своих выступлениях адвокат, тем больше его восхваляют; но ведь не все время он выступает в зале суда; и когда он выходит в свет, если он хочет, чтобы свет его считал приятным в общении приличным человеком, он должен оставить в своем кабинете все, от чего пахнет Дворцом правосудия [Méré 1930, III, 70, 142–143].
Ларошфуко, «Максимы», максима 203:
Истинно благородные люди никогда ничем не кичатся [Ларошфуко 1974, 56]. (Пер. Э. Л. Линецкой).
Последняя цитата требует некоторых пояснений. По процитированному нами переводу Э. Л. Линецкой может показаться, что речь идет просто о том, что приличные люди должны быть скромны. На самом деле Ларошфуко имеет в виду нечто более специфичное. В подлиннике эта максима звучит так: «Le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien». Глагол se piquer в данном контексте означает следующее (приводим определение из толкового словаря французского языка «Le petit Robert»): «претендовать на обладание и считать для себя необходимым обладать (неким качеством, неким преимуществом)». Таким образом, более точный – но и более неуклюжий – перевод этой максимы может звучать приблизительно так: «Человек истинно приличный не притязает на обладание никаким особым отличительным качеством». Речь опять-таки идет о деспециализированности: приличный человек не претендует ни на какие особые достижения в той или иной сфере – и уж тем более не претендует на обладание какой бы то ни было профессией. «Очень плохо, если при взгляде на человека сразу вспоминаешь, что он написал книгу».
Это категорическое требование деспециализации подразумевает два подтекста, которые взаимодействуют между собой (разумеется, у того или иного отдельно взятого автора тот или иной подтекст может быть преобладающим). С одной стороны, требование деспециализации восходит к аристократическому этосу: оно воспроизводит императив воздержания от позорных занятий, предъявлявшийся к дворянам. Дворяне во Франции не могли заниматься, во-первых, торговлей и, во-вторых, вообще никаким трудом ради заработка; любые подобные занятия оценивались как «умаление чина» (dérogeance) и карались временным лишением дворянского звания – cм. [Mousnier 2005, 109–111]. С другой же стороны, настойчивые указания на недопустимость привнесения какой бы то ни было профессиональной односторонности в общение «приличных людей» отражают то стремление к выстраиванию новой социальной иерархии, о котором говорилось выше: общение «приличных людей» происходит в пространстве равенства, где временно отменяются социальные классификации, управляющие отношениями людей в повседневности: так, дворянин и буржуа могут на равных общаться друг с другом в качестве «приличных людей» (об этой стороне дела см. [Gordon 1994]). Демонстративно деспециализированное поведение может рассматриваться с этой точки зрения как поведение ритуальное, как знак вхождения в выделенное общее пространство-время равенства.
Как мы видели, «приличный человек» – это человек по преимуществу беседующий. Именно беседа служит той площадкой, на которой утверждает свою идентичность «приличный человек». «Приличный человек» – тот, кто может легко и непринужденно поддержать любую беседу, чего бы она ни коснулась. В элитарной французской культуре XVII–XVIII веков светская беседа надстраивается над любыми формами cпециализированной коммуникации, как вышестоящий и самый престижный коммуникативный ярус, позволяющий наблюдать содержание всякой специализированной коммуникации и одновременно отрицать всякую специализированную коммуникацию как ограниченную, принужденную, несвободную. Эту особенность сформированного классической французской культурой светского габитуса впоследствии остро прочувствовал и описал в «Юности» Лев Толстой:
Человек comme il faut стоял выше и вне сравнения с ними; он предоставлял им писать картины, ноты, книги, делать добро, – он даже хвалил их за это ‹…› но он не мог становиться с ними под один уровень, он был comme il faut, а они нет, – и довольно» [Толстой 1960, 314–315].
Нетрудно увидеть, что выделенные нами выше черты «коллежского габитуса» идеально вписываются в габитус «человека приличного». Человек, умеющий изящно говорить на любую тему, при этом никогда не вдающийся в излишние подробности и не углубляющийся до бесконечности в какой-то один предмет, – это и был образцовый выпускник низшего учебного цикла иезуитских коллежей. И поведение «приличного человека», и поведение идеального оратора регулировалось одним и тем же высшим принципом – принципом уместности: принцип этот восходил к античным руководствам по поэтике и риторике. «Приличный человек» был одной из многих конкретно-исторических модификаций «риторического человека» – именно поэтому модель «приличного человека» оказалась идеально совместима с риторически ориентированным коллежским образованием. Поэтому и риторическое отношение к историко-филологическому знанию, которое впитывали в себя ученики иезуитских коллежей, оказывалось затем востребовано и закреплено в практике светского общения.
Чтобы сделать эту взаимозависимость коллежского образования и светского общения более наглядной именно в вопросе о применении «учености», обратим внимание еще на один – небольшой, но немаловажный – сектор коллежской системы, о котором мы пока что не говорили. Дело в том, что постепенно преподавание истории как самостоятельной дисциплины стало отвоевывать себе нишу даже в стенах иезуитских коллежей. Такая эволюция совершалась под давлением потребительского запроса, исходившего от аристократии, значимая часть которой желала дать своим сыновьям более «современное» и «приближенное к жизни» образование, нежели цикл классической словесности. Для детей из подобных высокородных семейств при некоторых коллежах (сначала у ораторианцев, а затем и у иезуитов) были организованы пансионаты (les pensionnats) – закрытые элитарные подразделения, где давалось свое, особое (так называемое комнатное, то есть гораздо более персонализованное) образование, сосуществовавшее под одной крышей со стандартным «классным» учебным процессом, но сильно отличавшееся от последнего по своему содержанию. Именно в рамках этого внепрограммного «комнатного» образования находит себе место, начиная с 1670‐х годов, и преподавание истории как отдельной дисциплины. Объем и направленность этой дисциплины оказываются существенно иными, нежели у исторического материала, привлекаемого к изучению в классах «humanitas» и риторики. Если там история ограничена античным периодом, то в пансионатах изучается не только и не столько античность, сколько история главных современных государств Европы. Если в классах история берется исключительно как часть риторики, то «в комнатах» историю изучают так же и как знание, служащее политическим целям, как часть науки властвовать. И тем не менее, несмотря на все эти совершенно специфические акценты «комнатного» образования, базовый коллежский габитус остается в силе и здесь. Приведем лишь один пример, но пример показательный, поскольку он касается центрального и самого престижного иезуитского коллежа – расположенного в Париже коллежа Людовика Великого[11]. В конце XVII – первых десятилетиях XVIII века историю здесь преподавал пансионерам отец Клод Бюфье. Главными сферами его интересов были богословие и философия: философию отец Бюфье преподавал в рамках общей учебной программы, учащимся второго цикла. На основе своих уроков истории отец Бюфье подготовил и выпустил в 1705–1706 годах учебник для пансионеров коллежа Людовика Великого. Учебник назывался «Практика искусственного запоминания, чтобы легко выучить и удержать в голове всемирную хронологию и историю». И вот как отец Бюфье обосновывал, обращаясь к юным аристократам, ценность исторического знания:
В каком только возрасте, в каком только звании, в каком только жизненном положении не будет человеку полезно и приятно держать в уме самые важные моменты священной и светской истории? Обладая таким преимуществом, в какой только беседе не сможет отличиться человек? (Цит. по [Brockliss 1987, 157]) (курсив наш. – С. К.).
Историю не исследуют – историю запоминают. Запоминают, чтобы при подходящем случае блеснуть эрудицией в разговоре. Знание истории ценно не как приближение к истине, а как преимущество в ходе беседы… Это все тот же габитус «приличного человека». Пансионатская подсистема иезуитских коллежей была нацелена на формирование этого габитуса не в меньшей, а даже в большей степени, чем классная подсистема: в классной подсистеме образование носило более выраженные черты «книжности», в большей мере культивировало «ученость» и, следовательно, таило в себе относительную опасность педантизма. Парадоксальным образом, именно в том секторе образовательной системы, где историческое знание смогло формально утвердиться как автономная дисциплина, – именно в этом секторе оно оказалось, по сути, наиболее гетерономизировано.
Как известно, открытость окружающему миру и установка на самое тесное сближение с придворными кругами всегда были отличительными особенностями иезуитского ордена. Неудивительно поэтому, что иезуитские коллежи стали главными кузницами «приличных людей». Каковы были объемы этого производства? Приведем несколько выборочных показателей. В 1627 году общая численность школяров, завершавших изучение цикла словесных дисциплин в иезуитских коллежах во Франции, составляла 1265 человек[12]. Тогда во Франции было всего 12 иезуитских коллежей. К 1675 году их число достигает своего максимума – 59 заведений[13]. Экстраполируя данные 1627 года на 1675‐й, получаем огрубленное представление о количестве выпускников низшего цикла в 1675 году: приблизительно 6200 человек. Эти несколько тысяч человек, выходцы частью из дворянства шпаги, частью из дворянства мантии, частью из крупной и средней буржуазии, были главным кадровым пополнением, вливавшимся каждый год в среду «приличных людей» – светских людей, умеющих блеснуть эрудицией, любящих изящную словесность, но не терпящих в своем кругу никакой специализированной коммуникации. Эти люди и составили критическую массу потребителей (и – отчасти – создателей) французской элитарной культуры XVII–XVIII веков.
Ален Виала, исследовавший социологию французской литературной жизни XVII века, говорит о появлении в XVII веке слоя «расширенной публики», находящегося между «народным» слоем (самым широким и маловлиятельным) и «слоем власти» (держатели контроля над знанием и текстами, максимум 2–3 тыс. человек). «Расширенная публика» – новоявленный средний слой, состоящий из дворян и обеспеченных горожан, в общей сложности несколько десятков тысяч человек [Viala 1985, 143–147]. Как пишет Виала, «эта расширенная публика ценила знание, но ненавидела педантизм. ‹…› Для расширенной публики безусловным социальным образцом является приличный человек. ‹…› Публика, состоящая из приличных людей, отвергает ученый дискурс во всех его формах» [Viala 1985, 147, 150].
Эта преломляющая среда внесла решающий вклад в закрепление, трансляцию и канонизацию габитуса «приличного человека»; в итоге этот габитус стал долгосрочной детерминантой французской элитарной культуры.
В XIX веке габитус «приличного человека» превратился в едва ли не главный психологический фактор, препятствовавший профессионализации и онаучиванию историко-филологического знания во Франции. О том, какая дистанция отделяла габитус ученого-гуманитария от габитуса «приличного человека», рассуждал в середине XIX века Эрнест Ренан. Свои размышления об амплуа «приличного человека» Ренан изложил в статье «Г-н де Саси и либеральная школа», напечатанной в августе 1858 года в «Revue des deux Mondes». Статья была посвящена фигуре Самюэля Устазаде Сильвестра де Саси (1801–1879). В отличие от своего отца, великого востоковеда Антуана Сильвестра де Саси (1758–1838), Сильвестр де Саси-младший был не ученым, а журналистом. В течение 20 лет он возглавлял газету «Journal des débats», а в 1854 году был избран во Французскую академию. В глазах Ренана он воплощение «приличного человека»:
Это не историк, не философ, не теолог, не критик, не политик; это приличный человек, который опирается лишь на свой здравый смысл. Этот прямой и надежный здравый смысл подсказывает ему мнения по всем тем вопросам, на которые другая часть людей ищет ответов у науки и философии. Историк примется опровергать его суждения; против них найдутся возражения и у поэта, и у философа – причем зачастую возражения небезосновательные; но здравый смысл тоже имеет свои права – при условии, что он не проявляет нетерпимости и не пытается стать преградой для чего-то очень оригинального [Renan 1947–1961, II, 29].
Здравый смысл делает Сильвестра де Саси превосходным моралистом, продолжает Ренан, но столь же ли благотворное воздействие оказывает этот инстинктивный здравый смысл на его литературные и исторические суждения? «На этот вопрос я не решаюсь дать ответа», – пишет Ренан с фирменной дипломатичной уклончивостью, которая была свойственна его публичным выступлениям. Говоря менее дипломатично: ответ был однозначно отрицательный. И далее Ренан со всей возможной дипломатичностью и объективностью противопоставляет интеллектуальные установки «моралиста» (читай: «приличного человека»), каким является Сильвестр де Саси, интеллектуальным установкам «критика» (читай: «ученого-гуманитария»), каким является сам Ренан (разумеется, слово «критика» употребляется здесь Ренаном в том философско-филологическом смысле, который это слово приобрело в Германии к концу XVIII века):



