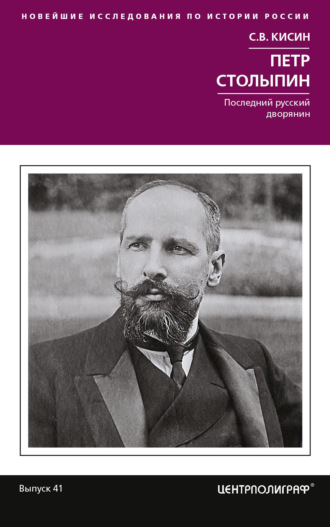
Сергей Кисин
Петр Столыпин. Последний русский дворянин
По губернии Столыпин носился как угорелый, где порками, где убеждением внушая почтение к власти. Из Ириновки в Голицыно, из Голицыно в Тепловку, оттуда в Даниловку, Салтыковку. Буйство на селе порой принимало совершенно гротескные формы. К примеру, в одном из сел местный ветеринар-революционер вел крестьян на погром усадьбы, одевшись в костюм эпохи Ивана Грозного с бармами на плечах. «Революционные» активисты грабили поезда, бросали на пути спиленные телеграфные столбы, винные лавки.
В Ириновке местная беднота сагитировала забастовку в имении князя Щербатова. Село имело репутацию революционного, в то время как окрестные села революционностью не отличались. Ириновцы назначили на 17 октября съезд в Новых Бурасах для организации большого выступления, но никто из соседей на самочинный съезд не явился. Между 18 и 20 октября ириновцы захватили соседнюю экономию Щербатова, создали вооруженную дружину из 26 человек и занялись «экспортом революции». По свидетельству очевидцев, в Голицыно они пришли строем, со знаменем, безуспешно пытались поднять крестьян. Ириновские вели себя подчеркнуто вызывающе, ограбили казенную винную лавку с песней «Царь Николаша, монополька будет наша», враждебную толпу пугали «бомбами» и под хорошим градусом прошли с «Марсельезой» по улицам села, чтобы «восстановить престиж революции».
По свидетельству дочери Столыпина: «У меня хранится любительский снимок, где видно, как папа въезжает верхом в толпу, за минуту до этого бушевавшую, а теперь всю, до последнего человека, стоящую на коленях. Она, эта огромная, десятитысячная толпа, опустилась на колени при первых словах, которые он успел произнести».
Маша, конечно, папина дочь, но здесь уместнее будет привести воспоминание свидетеля происшествия помещика Николая Львова: «Когда Столыпин стал им грозить, они тоже отвечали угрозами по отношению к полиции и казакам. Тогда он один вышел к ним и сказал: „Убейте меня“. Тогда они кинулись на колени. Но как только он сел в сани, чтобы уехать, в него стали кидать камни. Тут же ранили пристава, несколько казаков и солдат».
Пытаясь отыскать опору хоть в какой-нибудь политической силе, монархист-государственник Столыпин попробовал было сделать ставку на правых и черносотенцев. Все же они за самодержавие, православие и народность. Оказалось, что те ничуть не безопаснее, а то и хлопотнее бомбистов. Как писала Мария Бок, «теперь, когда революционеры устраивали демонстрации и шествия, они встречали организованный отпор. Происходило это таким образом. Идет по улицам толпа левых – в левой руке у каждого палка, в правой револьвер, навстречу им выходят правые. Движутся они правильными рядами – спереди самые отборные, сильные, во втором ряду у каждого в руках корзинка с булыжниками. Задние передают булыжники в корзины средних, последние передают их передним, которые и кидают их в противника. Революционеры под градом камней начинали беспорядочную стрельбу и разбегались». Можно себе представить, во что выливались подобные акции «народных дружинников».
Правые сорганизовались и собрали около 80 тысяч рублей для борьбы с левыми. Саратов разделили на три части, открыли народные клубы с библиотеками, кассами взаимопомощи, бесплатной медицинской помощью. В клубах давались спектакли на верноподданническую тему (пьесы лично отбирал Гермоген). Около клубов образовались ячейки со старшинами во главе, через них направлялась вся работа правых организаций. Николай II лично благодарил губернатора за усердную работу по пресечению беспорядков.
Когда же черносотенцы совсем уже зарвались, начав устраивать в Саратове еврейские погромы, губернатор задержал выпуск их газеты «Братский листок», издаваемый преосвященным Гермогеном.
«Да, человек он очень умный и достаточно сильный, чтобы спасти Россию, которую, думаю, можно еще удержать на краю пропасти, – говорил губернатор о Витте. – Но боюсь, что он этого не сделает, так как, насколько я его понял, это человек, думающий больше всего о себе, а потом уже о Родине. Родина же требует себе служения настолько жертвенно-чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует всю работу».
Редкая деталь для губернаторов тогдашней, да и нынешней поры – взяток не брал. На Столыпина каких только собак не вешали слева и справа, но никогда и ни при каких обстоятельствах никто не позволял себе обвинить его в мздоимстве и казнокрадстве. Уж можно не сомневаться, малейших бы подозрений хватило, чтобы раструбить на весь свет о «скелетах в шкафу» у такого человека. Бескорыстный губернатор – это уже в России повод для памятника. Да и не было смысла. Как удачливый помещик, имения свои он содержал в образцовом порядке, они приносили приличный доход. Вполне достаточный для пристойного проживания большой семьи. Приданое супруги-княжны тоже благотворно сказалось на благосостоянии Столыпиных. К тому же казенное жалованье и казенное жилье для губернатора позволяло содержать и штат прислуги, и периодически вывозить семью на отдых за границу. Пачкать же руки казнокрадством было противно мировоззрению выпускника столичного университета, воспитанного на крутом домашнем монархическом патриотизме, приправленном острым соусом из Толстого, Достоевского, Пушкина.
Однако вскоре пришлось прибегнуть и к войскам. В октябре в Саратове забастовали служащие управления Рязано-Уральской железной дороги, а на следующий день – рабочие заводов, фабрик, мельниц, железнодорожных мастерских, депо и других предприятий. В тот же день железнодорожники станции Аткарск, прекратив работу, устроили собрание в зале вокзала. Собрание переросло в митинг на привокзальной площади, на котором присутствовало несколько тысяч рабочих и служащих города. Саратовцев поддержали также железнодорожники Ртищева, Петровска, Балашова, Покровска.
В Парусиновой роще на митинге начался сбор средств на приобретение оружия. Неизвестно, сколько собрали, но оружие появилось мгновенно. Как будто только того и ждало. 12 октября в рощу сошлись до 5 тысяч крайне возбужденных рабочих и просто любопытных. Они двинулись в город через Дегтярную площадь. На Большой Сергиевской улице, дабы не допустить их в центр для очередной битвы с правыми, пришлось разгонять толпу казакам.
В губернию усмирять аграрные беспорядки были присланы войсковые подразделения под командованием генерал-адъютанта Виктора Сахарова (в 1904–1905 годах исполнял должность военного министра). Генерал, конечно, не «бурбон», но приказ от товарища министра внутренних дел генерал-майора Дмитрия Трепова имел вполне конкретный: «Холостых залпов не давать, патронов не жалеть».
Он и не жалел, миндальничать с бунтовщиками и смутьянами не стал.
«В настоящее время в Саратовской губернии, – докладывал царю Трепов, – благодаря энергии, полной распорядительности и весьма умелым действиям губернатора, камергера двора Вашего Императорского Величества Столыпина, порядок восстановлен».
Столыпин тогда писал жене: «Оленька моя, кажется, ужасы нашей революции превзойдут ужасы французской. Вчера в Петровском уезде во время погрома имения Аплечева казаки (50 чел.) разогнали тысячную толпу. 20 убитых, много раненых… Жизнь уже не считают ни во что… А еще много прольется крови…»
Жизнь обе стороны ни во что не считали. 22 ноября в дом губернатора, где остановился сам генерал-каратель, на утренний прием пришла миловидная, скромно одетая женщина, которой на вид было лет тридцать. Пожелала видеть генерала Сахарова. Его кабинет находился на втором этаже, слева от приемной Столыпина. Его превосходительство вышел и с галантным поклоном взял прошение из рук барышни. Подслеповато щурясь (генералу было 57 лет), с удивлением прочитал на «прошении» старательными каракулями выведенный смертный приговор себе от партии эсеров. Подняв глаза, увидел перед собой дуло браунинга. Генерал был убит наповал, террористку же, оказавшуюся бывшей купчихой Анастасией Биценко, схватил на лестнице чиновник для особых поручений князь Оболенский.
Для губернатора это стало шоком – убийство в его собственном доме. Он вызвал жандармского полковника и устроил тому разнос. Тем более выяснилось, что незадолго до этого приходили рабочие и предупреждали, что специально из Пензы приехали террористы с целью убить Сахарова. Охранка же игнорировала этот сигнал, полагая, что для бомбистов более привлекательной целью должен был стать сам Столыпин. Через несколько лет история повторится с точностью до наоборот с роковыми для России последствиями.
Следует заметить, что местные либералы восторженно встретили убийство генерала, а присяжный поверенный Масленников (кандидат в городские головы) даже прислал ей в тюрьму цветы. Кладбищенским юмором отметился один из левых журналов, отозвавшийся на убийство генерала такой заметкой: «Саратовская губерния объявлена неблагополучной по диабету (сахарная болезнь). Там уже наблюдался один смертный случай».
Биценко была приговорена к бессрочной каторге, освобождена после Февральской революции. В 1917 году входила в состав большевистской делегации на переговорах с немцами в Брест-Литовске. Возмездие ее настигло с вполне предсказуемой стороны – в 1938 году «героине-революционерке» припомнили эсеровское прошлое и казнили уже без всяких цветов и каторг.
17 октября самодержец разразился манифестом о даровании политических свобод и созыве Государственной думы. Но вместо ожидаемого успокоения это принесло еще одну проблему – мощные еврейские погромы, прокатившиеся по всей России (в том числе и в Саратове) в октябре – ноябре.
Убийство одного карателя положения не изменило. Прислали другого – генерал-адъютанта Константина Максимовича, бывшего атамана войска Донского, продолжившего с казаками «профилактические поездки» по Саратовской и Пензенской губерниям. Работы у них хватало. Как раз на этот период приходится так называемая «резня в Малиновке».
В конце октября – начале ноября 1905 года волна разгромов прошла по Сердобскому уезду; по трем станам был зарегистрирован 41 случай беспорядков. В число активно выступивших входила Малиновская волость: 7 беспорядков пали на нее. Но кроме разгромов усадеб и разграбления казенки, часть малиновцев разграбила и сожгла дом православного духовенства и училище. Реакция последовала незамедлительная и крутая: 42 (!) крестьянина, виновные в этом, были убиты своими же односельчанами.
30 октября Столыпин в письме жене дает некоторые подробности о малиновских событиях: «Пугачевщина растет – все уничтожают, а теперь еще и убивают… Вчера в селе Малиновка осквернили божий храм, в котором зарезали корову и испражнялись на образе Николая Чудотворца. Другие деревни возмутились и вырезали 40 человек». В письме 31 октября – новые штрихи: «А в Малиновке крестьяне по приговору перед церковью забили насмерть 42 человека за осквернение святыни. Глава шайки был в мундире отнятом у полковника, местного помещика. Его тоже казнили, а трех интеллигентов держат под караулом до прибытия высшей власти… Местами крестьяне двух деревень воюют друг с другом».
А в декабре 1905 года накал страстей в Саратове достиг апогея. Возникший Совет рабочих депутатов призвал к вооруженному восстанию по типу московского. 16 декабря на Институтской площади начался двухтысячный митинг, грозивший под воздействием ораторов из РСДРП перейти в вооруженное противостояние. Окончательно перетрусивший городской голова Александр Немировский, которого называли «маленький Витте», в очередной раз спрятался от возбужденной толпы (впоследствии по настоянию Столыпина уволен с должности). Губернатор вынужден был пойти на крайние меры и вновь привлечь войска. В результате погибли 8 и ранены 24 человека. А еще через два дня весь затеявший бузу Совет был арестован.
Однако тушить пожар керосином было делом бесперспективным. Кровью кровь не зальешь. Необходимо было выбить почву из-под ног террористов и революционеров, лишить их социальной базы, дезавуировать основные лозунги. Как писал сам саратовский губернатор во «Всеподданнейшем отчете за 1904 год»: «Жажда земли, аграрные беспорядки сами по себе указывают на те меры, которые могут вывести крестьянское население из настоящего ненормального положения. Единственным противовесом общинному началу является единоличная собственность. Она же служит залогом порядка, так как мелкий собственник представляет из себя ту ячейку, на которой покоится устойчивый порядок в государстве. В настоящее время более сильный крестьянин превращается обыкновенно в кулака, эксплуататора своих однообщественников… Если бы дать возможность трудолюбивому землеробу получить сначала временно, в виде искуса, а затем закрепить за ним отдельный земельный участок, вырезанный из государственных земель или из земельного фонда Крестьянского Банка, причем обеспечена была бы наличность воды и другие насущные условия культурного землепользования, то наряду с общиною, где она жизненна, появился бы самостоятельный, зажиточный поселянин, устойчивый представитель земли».
Умный Витте это понимал, поэтому чуть ли не силком заставил Николая II бросить кость либералам в виде Манифеста 17 октября. Но Россия – это отнюдь не либералы, это в подавляющем большинстве консервативные крестьяне, которым как воздух нужна была собственная земля, чтобы с топором идти не за ней, а ради нее. Как раз именно поддержка богобоязненных крестьян в ряде случаев в Саратовской губернии позволяла вовремя ликвидировать возникающие беспорядки. Получи мужик землю, тогда и к этому самому топору будет уже звать некого. Нужна была еще одна Великая реформа.
Столыпин, как и Витте, как и многие другие, это понимал. Но в отличие от многих действовал. В ходе беспорядков уже было не до экспериментов, типа Ковно и Гродно, однако он без устали забрасывал столицу всепокорнейшими записками, в которых обосновывал необходимость передачи крестьянам государственных земель. Иначе следующей пугачевщины монархии уже точно не выдержать. Патроны сегодня, конечно, можно «не жалеть», но ружья в следующий раз будут палить уже в обратную сторону.
Портфель в крови
В столице же у первого в истории России председателя Совета министров Сергея Витте голова шла кругом – страна расползалась на части. Тут уже не до реформ и «золотого рубля». Волнения и мятежи на рубеже 1905–1906 годов совершенно выбили его из колеи. Он застрял между молотом революции и наковальней террора, метался между либералами и черносотенцами, не видя реального выхода из ситуации.
То премьер подавал всеподданнейшую записку царю о необходимости «пряника»: «Ход исторического процесса неудержим. Идея гражданской свободы восторжествует если не путем реформы, то путем революции… Попытки осуществить идеалы теоретического социализма, – они будут неудачны, но они будут, несомненно». То вынимал из шкафа кнут – в письме министру Дурново прямо обозначал схему действий: «Для вящего устрашения лиц, стремящихся посеять смуту, Совет министров признал полезным ныне же сформировать на главнейших узловых станциях особые экзекуционные поезда с воинскими отрядами, которые в случае надобности могли бы своевременно быть отправлены на линию для водворения порядка…» И поехали навстречу друг другу, соответственно из Харбина и из Москвы, два карательных отряда генералов Павла Ренненкампфа и Александра Меллер-Закомельского для усмирения так называемой «Читинской республики», украшая станции виселицами, а население – исполосованными шомполами спинами.
Московский генерал-губернатор Федор Дубасов (успешный морской офицер), подавляя декабрьское 1905 года восстание, в средствах не стеснялся. Дружинников расстреливал пачками. Командир лейб-гвардии Семеновского полка полковник Георгий Мин вообще начисто был лишен сентиментальности – на Пресне наставлял подчиненных: «Арестованных не иметь, пощады не давать». Не имели и не давали. Валили всех в одну кучу – женщин с бомбами, пацанов с патронами, стариков с булыжниками. А заодно и случайных прохожих. Социальное происхождение не имело значения – раз на улице в момент боя, значит, боевик. Бог там сам отделит своих от чужих.
Владимир Ленин так охарактеризовал деятельность премьера в тот период: «Царю одинаково нужны и Витте, и Трепов: Витте, чтобы подманивать одних; Трепов, чтобы удерживать других; Витте – для обещаний, Трепов для дела; Витте для буржуазии, Трепов для пролетариата… Витте истекает в потоках слов. Трепов истекает в потоках крови».
На этом фоне правительство отчаянно нуждалось в средствах, которых негде было взять во взбаламученной смутой стране, кроме как рассчитывать на иностранные займы. А для этого необходимо было хоть немного приструнить вошедших в раж карателей и окончательно распоясавшихся в экзекуциях Дурново с Треповым, планомерно проводивших в стране черносотенные погромы. Трепова переместили с поста товарища министра внутренних дел на должность дворцового коменданта, Дурново тоже посоветовали паковать вещи.
К тому же умнейший Сергей Юльевич раньше всех в России осознал силу печатного слова. Именно благодаря пустяковой сумме, опущенной посланцами Витте в карманы журналистов «свободной западной прессы», во Франции и в США вышли благосклонные публикации о положении в Российской империи, в которых описывались демократические преобразования в стране. Общественное мнение Европы это благополучно проглотило, и Витте получил так необходимый ему займ от Франции в размере 2,25 млрд франков.
Витте обзавелся влиятельными при дворе врагами в лице Трепова и Дурново (оба «по наследству» потом перекочевали и в стан врагов Столыпина), которые организовали настоящую травлю Витте, обвиняя его в «потворстве революционной деятельности».
Мышиная возня при дворе вечно колеблющегося императора в итоге привела к тому, что в отставку 15 апреля 1906 года полетели и «граф Полусахалинский», и сам Дурново. Заем был получен, войска возвращены из Маньчжурии, выборы в Думу проведены – мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Император никогда не смог простить «русскому Бисмарку», что тот фактически переломил его «через колено», склонив к принятию Манифеста 17 октября.
Николай II достал из небытия почти 70-летнего Ивана Логгиновича Горемыкина, поручив ему сформировать новое правительство в надежде, что именно он сумеет вывести на свет божий 1-ю Государственную думу, таким образом хоть немного снизив накал страстей в стране.
Хуже выбора на тот момент сложно было представить. Тем более в отношении будущего парламента, который сам Горемыкин, которого даже в бюрократических кругах называли «ваше безразличие», заранее люто ненавидел и эту ненависть пронес через всю оставшуюся жизнь. Уходивший Витте отозвался о своем преемнике: «Недурной и умный… но… ничтожество». Великий князь Александр Михайлович так описал его: «Горемыкин, дряхлый, покрытый морщинами, выглядевший как труп, поддерживаемый невидимой силой».
Справедливости ради следует заметить, что и сам дряхлеющий новый премьер не горел желанием занимать шатающееся кресло, жалуясь окружающим: «Зачем меня уже третий раз вытаскивают из нафталина?» А именно такого и надо было Царскому Селу, уставшему от инициатив Витте и кровавых плясок крайне правых. Требовалось между левыми и правыми найти кого-либо крайне среднего, управляемого, безголосого, на которого можно было бы свалить как предстоящий созыв Думы, так и ее обязательный последующий разгон. «Его безразличие» был для этого идеален.
В то же время безликому Горемыкину нужен был и новый министр внутренних дел, способный принять «кровавый портфель» Дурново, наконец, грамотно подавить беспорядки и внести вожделенное упокоение в страдающей от анархии стране. Здесь уже было сложнее: новый министр нужен был не из недр полиции – оттуда в последнее время выходили либо палачи, вроде Сипягина, Плеве, Дурново, Трепова, либо блаженные, вроде Алексея Лопухина, малодушно «сдавшего» эсерам в обмен на похищенную дочь «короля провокаторов» Евно Азефа. Соответственно, искать самодержцу надо было из своего главного «кадрового резерва», заготовленного еще покойным Плеве, – губернаторов. Особенно из тех, кто достаточно успешно, а главное, с головой, справлялся с беспорядками в течение последнего года.
Прямо скажем, таковых было по пальцам пересчитать. Польша была практически неуправляема, Финляндия всерьез не воспринималась, центральные губернии полыхали, как монгольские кострища, Кавказ пребывал в пучине даже не политического, а чисто уголовного бандитизма, без всяких надежд на скорый порядок, в Сибири создавались настоящие неподконтрольные правительству территории, через которые возвращались из Маньчжурии войска, ставшие в своей пораженческой озлобленности еще страшнее бомбистов. Оставалось напряженное Поволжье, на фоне которого более-менее выделялась Саратовская губерния, чей глава – троюродный брат поэта Лермонтова Петр Столыпин – не только достаточно успешно гонял собственных инсургентов, но и умудрялся помогать соседним Самаре и Пензе. За что не раз удостаивался монаршего благоволения. Здесь как нельзя кстати пришлась «пятая колонна» в лице теневых царедворцев – тестя Нейдгардта, обер-прокурора Синода князя Александра Оболенского (именно его родственник был чиновником для особых поручений при саратовском губернаторе), графа Гейдена. Да и кремлевского коменданта в Царском Селе все помнили.
Сам губернатор был далеко не в восторге от предложения, которое ему сделали как-то странно, по телеграфу. Утверждают, что провожавшим его на вокзале Столыпин сказал: «Если предложение исходит от Совета министров – постараюсь вернуться обратно; если же из Царского Села, то, конечно, останусь там». По воспитанию он – убежденный монархист, царю отказать невозможно.
25 апреля Столыпина вместе с Горемыкиным вызвали к императору. Выпускник университета, не ожидавший такого поворота событий, честно начал отказываться от высокого поста, мотивируя это тем, что несколько месяцев губернаторства в Гродно и три года в Саратове не являются достаточной подготовкой к управлению всей внутренней жизнью России. Он просил для начала, в виде подготовки, назначить его товарищем министра. Монарх же, признававшийся впоследствии, что Столыпин при встрече произвел на него «благоприятное впечатление», ни за что не захотел менять свое решение.
«Петр Аркадьевич, я вас очень прошу принять этот пост». – «Ваше величество, не могу, это было бы против моей совести». – «Тогда я вам это приказываю, делаю это вполне сознательно, знаю, что это самоотвержение, благословляю вас – это на пользу России».
В позиции саратовского помещика не было никакого кокетства. Он действительно понятия не имел обо всех подводных течениях столичного политбомонда, который нельзя игнорировать и с которым просто необходимо было бы считаться на этом посту. Собственно последующие его попытки вопреки «играющей короля свите» проводить свою линию в государстве и привели к столь печальному финалу. Однако в тот момент монархисту Столыпину пришлось пожертвовать на этот раз своей совестью. Ради общего дела. 26 апреля вышел высочайший указ о его назначении – самого молодого министра в империи. В России появился новый министр, который уже на следующий день присутствовал на открытии Государственной думы, стоившей монархии столько нервотрепки.
Вряд ли теперь уже экс-губернатор не понимал, чем он рискует. Даже не репутацией. Отнюдь. Жизнью. По меткому выражению тогда еще просто историка Петра Милюкова, «жизнь министра внутренних дел застрахована лишь в меру технических трудностей его умерщвления…». Будучи фаталистом, Столыпин вряд ли задумывался о повышенных мерах безопасности для себя и крайней опасности нового положения (среди 12 последних глав МВД империи только двое умерли естественной смертью – князь Петр Святополк-Мирский и Петр Дурново). Правда, на всякий случай обзавелся тяжелым портфелем, одна сторона которого была с металлической прокладкой, так что она могла, в случае покушения, служить щитом. Слабенькая броня для готовых на все русских камикадзе. В него стреляли на дуэли, метали бомбы в Саратове, палили из браунинга в бунтующей деревне. Чего бояться человеку, все обозримые предки которого по мужской линии ходили в атаки и постоянно рисковали своей жизнью, не опозоря ни рода, ни чести?
Своей жене 26 апреля 1906 года он писал: «Оля, бесценное мое сокровище. Вчера судьба моя решилась! Я – министр внутренних дел в стране окровавленной, потрясенной, представляющей из себя шестую часть шара, и это в одну из самых трудных исторических минут, повторяющихся раз в тысячу лет. Человеческих сил тут мало, нужна глубокая вера в Бога, крепкая надежда на то, что он поддержит, вразумит меня. Господи, помоги мне. Я чувствую, что он не оставляет меня, чувствую по тому спокойствию, которое меня не покидает.
Поддержка, помощь моя будешь Ты, моя обожаемая, моя вечно дорогая. Все сокровище любви, которое Ты отдала мне, сохранило меня до 44 лет верующим в добро и людей. Ты, чистая моя, дорогая, Ты мой ангел-хранитель. Я задаюсь одним – пробыть министром 3–4 месяца, выдержать предстоящий шок, поставить в какую-нибудь возможность работу совместную с народными представителями и этим оказать услугу родине… Если и ждет меня неуспех, если придется уйти через 2 месяца, то ведь надо быть и снисходительным – я ведь первый в России конституционный министр внутренних дел».





