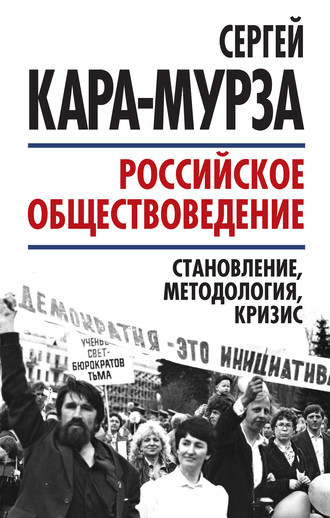
Сергей Кара-Мурза
Российское обществоведение: становление, методология, кризис
А вот редкий пример рефлексии, который вспоминает А.С. Ципко: «Во время одной из телепередач на упрек в несостоятельности российских демократов Юрий Афанасьев неожиданно ответил: “Вы правы, результат реформ катастрофичен, и, наверное, не могло быть по-другому. Мы на самом деле были слепые поводыри слепых”» [65, с. 84].
Состояние постсоветского обществоведения: общая картина
Многие стороны колоссального кризиса, который сопровождает крах СССР, служат опытным доказательством методологической ущербности обществоведения времен перестройки и реформы.
В рамках нормальной логики и при соблюдении научного этоса профессиональному сообществу обществоведов невозможно было бы оправдать тех разрушительных изменений, которые были навязаны стране со ссылкой на «общественную науку». Сегодня чтение трудов обществоведов перестроечного периода оставляет тяжелое чувство. В них нарушены самые элементарные нормы мышления и утрачена способность «взвешивать» явления.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2004 г. сказано: «С начала 90-х годов Россия в своем развитии прошла условно несколько этапов. Первый этап был связан с демонтaжом прежней экономической системы… Второй этап был временем расчистки завалов, образовавшихся от разрушения “старого здания”… Напомню, за время длительного экономического кризиса Россия потеряла почти половину своего экономического потенциала».
Реформа 1990-х гг. верхушкой обществоведов представлялась обществу как модернизация отечественной экономики – а оказывается, что это был ее демонтаж, причем исключительно грубый, в виде разрушения «старого здания». На это согласия общества не спрашивали, а общество не дало бы такого согласия. Речь идет о колоссальном обмане общества, совершенном с участием авторитетных обществоведов. Замалчивались даже суждения американских экономистов, которые были консультантами российского правительства.
В январе 1992 г. в Вашингтоне в Комитете по советско-американским отношениям Джеффри Сакс делал доклад о программе, к которой приступали в России. Как писал академик Г.А. Арбатов, в своем выступлении по этому докладу Д. Гэлбрейт сказал: «На Западе слишком хорошо знают, что такой подход неприемлем. И потому никогда не позволят осуществлять его на практике в своих собственных странах». На это Дж. Сакс ответил: «Шоковая терапия имеет шанс на успех, но лишь в том случае, если Запад предоставит значительную помощь, особенно для стабилизации рубля. К сожалению, Запад едва ли такую помощь мобилизует» [66].
Гуманитарная элита, уже российская, знала и об этом докладе Дж. Сакса, и о выступлении Д. Гэлбрейта, но не было никакой попытки обсуждения и коррекции разрушительной доктрины. Это – выпадение из системы норм научной этики. Как же можно держать в советниках таких людей?
Главные обществоведы страны даже не утверждали, что жизнеустройство страны может быть переделано без катастрофы – но тут же требовали его переделать. Наблюдалась поразительная вещь: ни один из ведущих экономистов никогда не сказал, что советское хозяйство может быть переделано в рыночное хозяйство западного типа. Никто никогда и не утверждал, что в России можно построить экономическую систему западного типа. Ситуация аномальная: заявления по важнейшему вопросу строились на невысказанном предположении, которого никто не решался явно изложить. Никто не заявил, что на рельсах нынешнего курса возникнет дееспособное хозяйство, достаточное, чтобы гарантировать выживание России как целостной страны и народа. Сколько ни изучаешь сегодня документов и выступлений, никто четко не заявляет, что он, академик такой-то, уверен, что курс реформ выведет нас на безопасный уровень без срыва к катастрофе.
А вот предупреждений об очень высоком риске сорваться было достаточно.
Никакое научное сообщество не может принимать подобные катастрофические предложения без обоснования и критического анализа. Один этот штрих показывает, что к началу 1990-х гг. в СССР и России уже не существовало сообщества обществоведов как научной системы.
А возникло ли такое научное сообщество сегодня? Что произошло с российским обществоведением после ликвидации СССР?
В новой политической системе, которую строила номенклатура КПСС, перешедшая на антисоветские позиции, не предполагалось создавать новое профессиональное сообщество обществоведов на новой методологической и организационной основе. Считалось, что та элита советского обществоведения, которая обеспечила дискурсом, идеями и доктринами перестройку Горбачева, обеспечит этими инструментами и развитие капитализма в России. Считалось также, что большинство обществоведов, которые не примут эту «Великую антисоветскую революцию», можно будет если не подавить, то заставить молчать. Этот расчет оправдался – ценой разрушения сообщества обществоведов как социокультурной общности.
Процесс «косметического ремонта» советского обществоведения проходил так: «На первый взгляд, в начале 1990-х годов сложились исключительно благоприятные условия для развития политологического знания. Политической науке досталась в наследство вся инфраструктура, создававшаяся для обеспечения деятельности таких дисциплин, как научный коммунизм, история КПСС, марксизм-ленинизм и пр. На базе кафедр научного коммунизма и истории КПСС формировались политологические кафедры, на изучение политологических проблем переходили целые исследовательские институты. Академия общественных наук при ЦК КПСС была преобразована в Российскую академию государственной службы (РАГС); Институт марксизма-ленинизма – в Независимый институт социальных и национальных проблем, а позднее – в Институт комплексных социальных исследований РАН; Институт международного рабочего движения – в Институт сравнительной политологии. Высшие партийные школы стали кадровыми центрами при Правительстве России, а затем – региональными филиалами РАГС» [67].
Интеллектуальной общности, которая десять лет занималась подрывом государства, социальной и культурной систем, теперь поручили руководить познавательной деятельностью, образованием и проектированием строительства общества и государства в совершенно иной системе. Более того, элита этой новой общности раньше представляла систему капитализма в деформированном образе «идеологического врага» и в то же время, в грезах, видела капитализм вожделенной землей обетованной. Это глубокий когнитивный диссонанс!
Кризис, в создании которого активное участие принимало сообщество обществоведов, нанес самый тяжелый удар в системе знания именно по обществоведению. Специфические сценарии и процессы в каждой отдельной области (экономике, социологии, этнологии и пр.) могут различаться, но в целом их состояние характеризуется рядом общих черт.
Эту общность с расщепленным сознанием сразу прибрали к рукам службы бывшего «идеологического врага». Эта операция была проведена так: «Происходили масштабные метаморфозы, связанные с последствиями шоковой терапии начала 1990-х годов: по мере сокращения государственного финансирования исследовательского и учебного процесса научная интеллигенция быстро теряла былой социальный статус. …В этой ситуации на помощь молодой российской политологии пришли западные благотворительные фонды. В их числе следует упомянуть Институт “Открытое общество” Дж. Сороса, фонды Аденауэра, Карнего, К. и Дж. МакАртура, Форда, Эберта и др., которые внесли и вносят существенный вклад в развитие политической науки в России, выделяя гранты на проведение фундаментальных и прикладных исследований.
В содержательном плане рассматриваемый период характеризовался интенсивным освоением достижений западной (прежде всего американской) политической мысли. Было издано значительное количество переводных работ, причем некоторые из них бесплатно распространялись по грантам западных фондов» [67].
Это – важный фактор, но не причина, а следствие. Главными общими процессами и факторами кризиса постсоветского обществоведения можно считать следующие:
– кризис мировоззренческой матрицы советского проекта в 60—80-е гг. ХХ в. и производный от него кризис когнитивной основы советского обществоведения;
– кризис легитимности советской политической системы в 80-е гг. и распад сообщества обществоведов как профессионального; формирование группировок на идеологической и прагматической основе; «внешние» заказчики и спонсоры и их влияние на обществоведение;
– фрагментация информационной системы российского обществоведения; дискриминация при доступе к информационным ресурсам по идеологическим и экономическим основаниям;
– изменение системы отношений с «социальными заказчиками» и возникновение «интеллектуального предпринимательства» в сфере обществоведения;
– изменение системы господства в России и новая структура тематики в обществоведении; выведение в «социальную тень» важных социокультурных общностей и главных противоречий в обществе;
– системный кризис в России и отход от норм рационального мышления в элите и в массовом сознании;
– общий кризис когнитивных структур Просвещения и давление постмодернизма.
Согласно приведенному перечню, первым фактором, определяющим состояние обществоведения, является воздействие на научное сообщество методологического наследия советского периода. Инерция этого воздействия очень велика, и ее преодоление само по себе есть актуальная и сложная задача обществоведения, которая в явном виде даже еще не поставлена.
Истмат – доктрина, ставшая частью идеологии. Обществоведению нанесла вред уже стереотипизация истмата – превращение его формул в расхожие догмы. Описание социальной реальности тяготело к механистическому детерминизму ХIХ в. После краха СССР истмат был лишь «вывернут» в фундаментализм механистического неолиберализма. Его интеллектуальные структуры во многом симметричны структурам истмата, так как в принципе выводятся из той же картины мира. Реформа 90-х гг. никак не сказалась на статусе методологии истмата, потому что он с ней оказался вполне совместим. Поэтому основная масса обществоведов от истмата сегодня совершенно искренне находится в одном стане с ренегатами марксизма. Объяснять это конформизмом членов сообщества невозможно. Они не пережили драму предательства, т. к. их методология фатальным образом искажала реальность.
Более того, ликвидация «цензуры» марксизма освободила такие темные пласты сознания, что произошел откат в методологических и ценностных установках, которого мало кто мог ожидать. Речь, конечно, идет не обо всем обществоведении, но все же о доминирующей и официально признанной его части.
Антонио Грамши высказал в «Тюремных тетрадях» такую мысль о роли истмата в консолидации трудящихся: «Можно наблюдать, как детерминистский, фаталистический механистический элемент становится непосредственно идеологическим “ароматом” философии, практически своего рода религией и возбуждающим средством (но наподобие наркотиков), ставшими необходимыми и исторически оправданными “подчиненным” характером определенных общественных слоев. Когда отсутствует инициатива в борьбе, а сама борьба поэтому отождествляется с рядом поражений, механический детерминизм становится огромной силой нравственного сопротивления, сплоченности, терпеливой и упорной настойчивости…
То, что механистическая концепция являлась своеобразной религией подчиненных, явствует из анализа развития христианской религии, которая в известный исторический период и в определенных исторических условиях была и продолжает оставаться “необходимостью”, необходимой разновидностью воли народных масс, определенной формой рациональности мира и жизни и дала главные кадры для реальной практической деятельности» [68, с. 54, 55].
Но затем Грамши объясняет, что после завоевания власти тот же самый фатализм истмата начинает играть негативную роль: «Когда “подчиненный” становится руководителем и берет на себя ответственность за массовую экономическую деятельность, то этот механизм становится в определенном смысле громадной опасностью… Фатализм является не чем иным, как личиной слабости для активной и реальной воли. Вот почему надлежит всегда развенчивать бессмысленность механистического детерминизма, который, будучи объясним как наивная философия массы… с возведением его в ранг осознанной и последовательной философии со стороны интеллигенции, становится причиной пассивности, дурацкого самодовольства» [там же].
И Грамши записал такое замечание: «Что касается исторической роли, которую сыграла фаталистическая концепция философии практики, то можно было бы воздать ей заупокойную хвалу, отметив ее полезность для определенного исторического периода, но именно поэтому утверждая необходимость похоронить ее со всеми почестями, подобающими случаю» [68, с. 60].
Эти похороны не состоялись и сегодня – истмат легко вошел в альянс с неолиберализмом. Реформа 1990-х гг. никак не сказалась на статусе методологии истмата, потому что он с этой реформой оказался вполне совместим – стоило только сказать, что пролетарская революция не созрела, советский строй был реакционным, следовательно, надо способствовать развитию производительных сил в рамках капитализма.
Критический анализ методологического оснащения доктрины марксизма является для постсоветского общества абсолютно необходимым. Этот анализ тем более актуален, что как правящая элита, так и оппозиция в России продолжают, хотя в основном бессознательно, в своих умозаключениях пользоваться инструментами исторического материализма и марксистской политэкономией – смена идеологических клише «победившей» частью общества на это никак не влияет.
Л.Г. Ионин пишет: «Если отвлечься от чисто теоретических особенностей и от научно-организационных принципов, то иногда очень трудно найти различия в идеологических функциях изучения социальной структуры в марксистской и в так называемой буржуазной социологии. В обоих случаях подход был нормативным, высшей ценностью считались равенство и справедливость, образ идеального состояния и конечные ценности вытекали из одного и того же источника – духа Просвещения и Великой французской революции» [69].
Наследием советского и дореволюционного российского обществоведения стала когнитивная структура, следующая траектории натурфилософии, а не науки. В постсоветской России продолжилось включение в методологию обществоведения, претендующего быть научным, структур вненаучного знания (художественного и все чаще религиозного). В преподавании социологии нередко даже делают упор на использование художественной литературы как источника знания о закономерностях общественных процессов.
Вот выдержка из статьи проректора обществоведческого вуза: «Возрастает значение обучения и воспитания социологов с использованием отечественной художественной литературы, в особенности той, что затрагивает корневые проблемы социально-исторического, духовно-культурного развития российского общества, жизни русского народа, составляющего более 80 % населения страны.
Во второй половине XX века в нашей стране специфику жизненных сил и пространства жизни человека в художественной форме наиболее глубоко и личностно, и социально акцентированно, по нашему мнению, выразили “деревенщики”, в том числе В.М. Шукшин. Его творчество стало одним из наиболее мощных ресурсов постижения модели нашей истории и культуры, перспектив будущего русских людей, их государственности. Вот почему, как представляется, для рассмотрения ключевых тем базовых учебных курсов современной российской социологии могут использоваться фактически все художественные произведения В.М. Шукшина.
Типичная, традиционная практика использования шукшинских произведений, особенно рассказов, была связана с социологией села… Тем самым была продолжена традиция русской художественной литературы и обществознания XIX века, связанная с осмыслением народного характера и национальной судьбы, уровень которого был задан А.С. Пушкиным, продолжен Н.В. Гоголем, Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым» [70].
Даже академик М.К. Горшков, который принимает как аксиому, что социология должна отодвинуть политические пристрастия (апологетику и оппозиционность), в другой «аксиоме» противоречит себе: «В известной мере социолог-эксперт наследует миссию философов, поэтов и политических мыслителей прошлого, нередко стремившихся (подобно Платону или Макиавелли) играть роль “советника государя”».
Беспристрастный социолог научного типа должен быть не советником власти, а сообщать достоверное знание и государю, и революционеру – такова его функция как ученого. Выполнение этой миссии поднимает на более высокий уровень деятельность и государя, и революционера, и это благотворно для общества в целом.
Вторым по значению фактором кризиса можно считать ориентацию элиты обществоведения на политические и экономические интересы заказчиков и спонсоров, а не на объективную истину. Это отдаляет сообщество от науки не меньше, чем когнитивные средства натурфилософии.
Эти факторы деградации обществоведения стали общепризнанными. М.К. Горшков пишет: «Симптомами этого недуга можно считать следующие черты деятельности отечественных социологов, все отчетливее проявляющие себя в последнее время:
– социологический сервилизм: в сложившейся системе взаимодействия с властными структурами социологи чаще всего исполняют гувернерские, обслуживающие функции;
– доминирование в социологической науке таких тем, которые связаны с оправданием сложившегося в России социального уклада. Довольно редко в поле зрения отечественной социологической науки попадают темы, касающиеся повседневной жизни и трудовой деятельности широких масс населения страны; вопросы, связанные с изучением природы социального неравенства, истории и последствий приватизации в России; исследования в области причин региональных различий, криминализации общества и роста коррупции, отчуждения человека, произвола правящей бюрократии и народившейся российской буржуазии» [27].
Конечно, академик М.К. Горшков хорошо знает сообщество социологов, но, по моему мнению, нынешнее состояние этого сообщества нельзя объяснить сервилизмом, обслуживающими функциями и оправданием сложившегося в России социального уклада. Все это имеет место, но это – производная более сильного мотива. На мой взгляд, элита сообщества обществоведов сложилась уже 30–40 лет назад как группа молодых амбициозных интеллектуалов, пошедших за «шестидесятниками». Выше приведены отрывки из их мемуаров, которые проливают иной свет на нынешнее состояние.
Именно эта группа в 1970-е гг. измененила «формат взаимодействия социологов и власти: теперь это не сотрудничество, а подрывная деятельность… Социологи, преодолевшие искушение сотрудничеством с обманувшей их надежды властью, теперь рассматривают социологическое исследование как “сопротивление системе, но с помощью научного знания”» (В.Н. Шубкин). И вот признание, смешанное с гордостью: социология «стала важным фактором реформирования и в конечном счете революционного преобразования» советского общества (В.А. Ядов). Почему же не верить им? Ведь мы хорошо знали их установки – дело не в сервилизме. Подрывная деятельность против СССР была их служением. Инерция очарования их миссии борьбы с «империей зла» оказалась более сильной, чем можно было предположить. Как не претили этим интеллектуалам грубые приемы Б.Н. Ельцина и криминализация общества и государства, они считали необходимым помогать новому режиму.
Кризис сообщества обществоведов был вызван их внутренними причинами. После краха СССР в социальной структуре обществоведения сложилась компактная господствующая группа, объединяющей силой и ядром идейной основы которой являлся антисоветизм. У нее было развито мессианское представление о своей революционной роли. Даже почтенным иерархам общественных наук (например, академикам Д.С. Львову, Н.Я. Петракову или Ю.В. Яременко) был закрыт доступ к трибуне, так что их рассуждения в узком кругу специалистов превратились в «катакомбное» знание.
Эта господствующая группа создала такую обстановку, что студенты и аспиранты, преподаватели и научные сотрудники, уже не обладающие антисоветской или просоветской пассионарностью, вынуждены стать конформистами и демонстрировать свой сервилизм: многие – прикрываясь маской. Все профессиональные обществоведы были вынуждены гласно принять установки работодателя, а единственным работодателем было государство. Нежелательное вольнодумие дозировалось и контролировалось, публикации были возможны лишь в малотиражных и маргинальных издательствах, а сообщество должно было делать вид, что таких публикаций не существовало, – ни рецензий, ни критики, ни обсуждения не могло быть.
Замечательно подвели итоги своей деятельности в обществоведении сами В.Ж. Келле и М.Я. Ковальзон в большой статье в журнале «Вопросы философии» (1990). Они отказываются от советского строя: «Строй, который преподносился официальной идеологией как воплощение идеалов социализма, на поверку оказался отчужденной от народа и подавляющей личность авторитарно-бюрократической системой… Идейным основанием этой системы был догматизированный марксизм-ленинизм» [71].
Эти два видных деятеля обществоведения и активные производители «догматизированного марксизма» были вынуждены заявить, что «на поверку» советский строй оказался не тем, что они писали. Печальное зрелище. Но еще важнее: это признание значит, что их «наука» не располагала существенными средствами для познания реальных общественных процессов. Ведь если бы они были исследователями, которые, для виду подчиняясь «системе», в то же время изучали нашу действительность эффективными методами, то в 1990 г. они вынули бы из ящика стола и опубликовали свои выстраданные откровения. Но этого нет, статья полна ритуальной ругани в адрес «авторитарно-бюрократической системы» и не содержит ни одной определенной мысли.
Вот эмпирический социологический факт. Социолог А.В. Грехов пишет:
«Все чаще приходится слышать словосочетания “оранжевая опасность”, “оранжевая угроза”, “болотные оранжисты”, предвещающие социально-политические потрясения. …С помощью квантификационного метода мы утверждаем, что подобное “оранжевое” явление наше отечество претерпело на рубеже 1980—1990-х годов. Перестройка всех сторон жизни общества, предпринятая с 1985 г., вылилась в радикальные изменения в советском государстве и завершилась государственными переворотами 8 декабря 1991 г. и 21 сентября – 4 октября 1993 г.
Оранжизм этого периода проявился в целенаправленном формировании посредством коммуникативных возможностей средств массовой информации антисоциалистического общественного сознания с последующим общественным одобрением радикальных изменений общественно-политического строя…
Значительная часть творческой интеллигенции газетных и журнальных коллективов, находясь на стыке мировоззренческих катаклизмов и общественно-политических веяний, вставала на позицию негативного отношения к советской истории, выражала свою приверженность либерально-демократическим ценностям. Негативно-оценочный советско-публицистический бум, в том числе на страницах журналов “Знамя”, “Новый мир”, подготавливал крушение Советского Союза, закрепление основ “суверенно-демократического” государства, родившегося на руинах развенчанного социалистического идеала.
В центре мировоззренческого столкновения… оказалась проблема сущности и содержания Октябрьской социалистической революции как судьбоносного для страны события.
Квантификационный взгляд на исторические публикации того периода на страницах прессы позволил выявить тенденции и технологии целенаправленной деятельности средств массовой информации по “исправлению” общественного/исторического сознания советского населения» [72].
Публикуемые в популярных журналах и газетах авторы в годы перестройки вели интенсивную антисоветскую пропаганду в агрессивном стиле. Не только научные, но и просто рациональные рассуждения исчезли из прессы. Но это значит, что большинство сообщества обществоведов, которое вовсе не примкнуло к активной части антисоветской «цветной революции», было вынуждено замолчать – из осторожности и из-за утраты доступа к изданию публикаций (кроме ничтожного числа гротескных, которых можно было осмеять или назвать паранойей).
А.В. Грехов пишет о двух самых популярных журналах, которые до перестройки привлекали тем, что в них велась корректная дискуссия. Теперь публикуемые авторы «генерировали в общественном сознании негативную оценку октябрьским событиям со страниц журнала “Знамя”. Это были в первую очередь представители филологической науки – писатели (7 публикаций), поэты (4), литературоведы (6), а также философы (4), политологи (2)…
Право формировать общественное сознание населения в перестроечные и постперестроечные годы было монопольно отдано противникам Октябрьской революции, сторонникам крушения созданной ею политической системы. Конъюнктурно-заказные авторы стали определять мировоззренческую направленность знаменской публицистики.
Квантификационный метод вскрывает подобную картину и в отношении журнала “Новый мир”. Уже с 1989 г. в журнале доминировали негативно-оценочные публикации об Октябрьской революции… Отличие новомирской исторической публицистики от знаменской – более активное участие в антиоктябриане представителей философской, исторической, экономической, социологической наук. …Авторами всех негативно-оценочных философских публикаций были российские эмигранты первой волны…Целенаправленные публикации знаменских и новомирских авторов формировали у читателей суггестивное отношение к социалистической революции и ее деятелям. В сознание читателей внедрялась неизбежность “научного” предсказания о крушении советской политической системы. Тем самым население подготавливалось к “оранжевому” варианту ликвидации советской системы власти, произошедшей в 1993 г.» [72].
Как иллюстрацию приведем одну из таблиц в этой статье. Из нее видно, насколько тотальным был сдвиг массива публикаций в журнале «Новый мир» к антисоветским установкам.
Таблица 1. Публикации об Октябрьской революции

Логика ведущих обществоведов мейнстрима была и остается далекой от рациональности. Уже к середине 1990-х гг. стало очевидным и было зафиксировано в ряде работ, что исходные выводы доктрины реформ были ложны. Мнение, что экономическая реформа в России «потерпела провал» и привела к «опустошительному ущербу», стало общепризнанным и среди российских (пусть негласно), и среди западных специалистов. Нобелевский лауреат по экономике Дж. Стиглиц дает такую оценку: «Россия обрела самое худшее из всех возможных состояний общества – колоссальный упадок, сопровождаемый столь же огромным ростом неравенства. И прогноз на будущее мрачен: крайнее неравенство препятствует росту» [73, с. 188].
Вдумаемся: в результате реформ мы получили самое худшее из всех возможных состояний общества. Значит, речь идет не о частных ошибках, вызванных новизной задачи и неопределенностью условий, а о системе ошибок, о возникновении в сознании проектировщиков реформы «странных аттракторов», которые тянули к выбору наихудших вариантов из всех возможных, тянули к катастрофе. Эти ошибки были обусловлены воздействиями идеологией, они делались вопреки хорошо систематизированному историческому опыту России, вопреки предупреждениям множества советских и российских специалистов, вопреки предупреждениям видных зарубежных ученых. Этот факт также требует рефлексии, ибо говорит об очень глубокой деформации всей системы норм научной рациональности в отечественном обществоведении.
Масштаб социального бедствия не имеет прецедента в индустриальном обществе Нового времени. Украина, ставшая после развала СССР большой европейской страной с высоким уровнем научного и промышленного развития, погрузилась в редкостный кризис – в 2000 г. средняя реальная заработная плата здесь составляла 27 % от уровня 1990 г. (в Таджикистане – 7 %). В Армении к концу 1997 г. средний уровень заработной платы составил около 28 долл., в то время как стоимость минимальной потребительской корзины в этот момент достигала 50 долл.
На рис. 4 показан масштаб бедности в странах с переходной экономикой (в основном постсоветских в начале 2000-х гг.) [74, с.188–198]. Обществоведение было просто обязано объяснить, почему совсем недавно благополучные республики погрузились в такое бедствие, а также объяснить, почему Беларусь после 1996 г. смогла быстро вырваться из этой ловушки.

Рис. 4. Население, живущее в условиях абсолютной бедности в странах с переходной экономикой Европы и Средней Азии, %
(Источник: Making Transition Work for Everyone: Poverty and Inequality in Europe and Central Asia, 2002, Тhe World Bank, Washington, DC.)
Поразительно, что программа реформы и не предполагала создать или сохранить механизмы, предотвращающие обеднение населения. Исследователи ВЦИОМ писали: «Процессы формирования рыночных механизмов в сфере труда протекают весьма противоречиво, приобретая подчас уродливые формы. При этом не только не была выдвинута такая стратегическая задача нового этапа развития российского общества, как предупреждение бедности, но и не было сделано никаких шагов в направлении решения текущей задачи – преодоления крайних проявлений бедности» [75].
Казалось бы, перед обществоведением возник очень важный в теоретическом и еще более в практическом плане объект исследований, анализа, размышлений и диалога. Но за прошедшие 25 лет стремления к рефлексии по отношению к методологическим основаниям реформы в среде обществоведов не наблюдается (за исключением отдельных личностей, которые при настойчивой попытке гласной рефлексии становились изгоями сообщества обществоведов).
А ведь все это можно было надежно предвидеть уже в 1989–1990 гг. Тогда многие экономисты начали читать Хайека, можно было понять, какой эффект его концепции произведут на практике в России. Фридрих фон Хайек писал: «Имеет ли какой бы то ни было смысл понятие социальной справедливости в экономической системе, основанной на свободном рынке? Категорически нет». О.Т. Богомолов в 2004 г., комментируя это утверждение Хайека, сказал: «Современные российские либералы в этом отношении остаются последователями Ф. Хайека»[22]. Коллеги промолчали.
Никак не ответив на эти работы, содержащие профессиональную критику, общность обществоведов, разработчиков доктрины реформ, нарушила элементарные нормы науки. Это означало исчезновение сообщества как профессионального.
Народное хозяйство и жизнеустройство любой страны – это большая система, которая складывается исторически и не может быть переделана исходя из доктринальных соображений – даже если на время политикам удается пробудить массовый энтузиазм и радужные иллюзии. Но никаких шансов на успех такая реформа не имела, устойчивой массовой поддержки неолиберальная доктрина реформ в России не получила, что показали многочисленные исследования и самые разные способы демонстрации позиции «послушно-агрессивного большинства» («совка», «люмпена», «иждивенца» и пр.). Сам набор ругательств, которыми идеологи реформ осыпали большинство населения, говорит о неприятии реформ.






