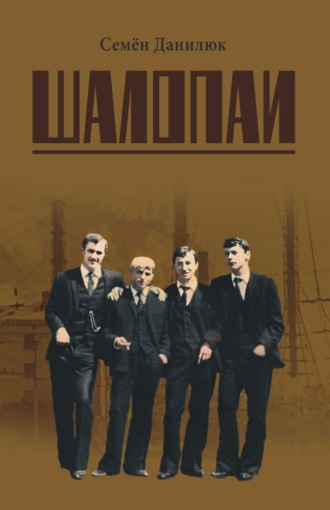
Семён Данилюк
Шалопаи
– Идут.
Из-за сараев показалась группа человек пятнадцать.
– Прости-прощай, музучилище! – Валеринька выдохнул с каким-то даже облегчением. Когда выбора не оставалось, он храбрел. Потянулся к палке, подобранной по дороге. Но глянул в другую сторону и безвольно выронил её. – Доигрались.
Слабая решимость к отпору, которую Гутенко в себе подогревал, разом иссякла, потому что с другой стороны, из арки, выскочил не кто иной, как Боб Меншутин.
О Кибальчише в Шёлке помнили и рассказывали с придыханием. В отличие от своего приятеля Лапы, дважды уже отсидевшего, Меншутина от колонии спасла мать, мольбами которой его забрили в армию.
Но, вернувшись на гражданку, он воссоединился с освободившимся дружком и был принят в окружавший Лапу ближний круг.
Едва не каждый вечер просиживали они в узкой компании на Советской, в пивном баре «Корочка» или в ресторане «Селигер», и редкий вечер не заканчивался хорошим мордобоем, а то и гоп-стопом, до которого оставался охоч заматеревший Лапа. В этой отборной компании Меншутин единственный оставался несудимым. Впрочем, все были уверены, что это недоразумение будет вскоре ликвидировано, как неизбежна потеря затянувшейся невинности у разбитной девахи.
Именно приятельство с Кибальчишем, у которого он числился кем-то вроде адъютанта, придавало особый вес Кальмару.
Впрочем, наблюдательный Данька подметил, что появление Кибальчиша стало неожиданностью и для самого Кальмара, – больно неестественно расплылась его физиономия, промасленная, будто блин со сковородки. Больно глубоко, издалека, кивнул. Заметил и другое: встречи не ждал и Меншутин. Похоже, он сам поначалу намеревался проскочить двор: мимо трансформаторной будки – к сараям и – через забор – сигануть на Малую Самару. Но, должно быть, любопытство пересилило. Он подошёл к чугунной колонке, энергично подкачал рычаг и жадно принялся ловить ртом хлещущую из узкого соска струю. Напившись, поозирался и – закосолапил к беседке.
Кребзовцы меж тем обступили сгрудившуюся подле теннисного стола группку. Приосанившийся Загоруйко по-хозяйски огляделся:
– А где этот прокурорский выкормыш? Сдрейфил, конечно. Шантрапу вместо себя подослал?.. Ты! – он ухватил за волосы ближайшего – Гутенко, – тряхнул. – Пять минут, чтоб найти. Иначе вас самих отметелим, как тузиков. Пулей, я сказал!
– Уж больно ты грозен, сосал бы ты… – донеслась из-за спин насмешливая нецензурщина, за которую на зоне – Загоруйко знал – убивали.
– Чего-чего?! – не поверил он.
Сделал разгребающее движение. Впрочем, перед ним и так расступились. На теннисном столе с гитарой в руках сидел смутно знакомый крепышок и насмешливо разглядывал массивного Кальмара.
Аккуратно отложил гитару, огладил короткий ёжик.
– Вот и верь молве! – подивился он. – Наговорили хренову тучу:
– Гроза округи! Кальмар! Боец-удалец! А на поверку, гляжу – жирный боров.
Загоруйко несколько опешил. Странный гитарист, окруженный враждебной толпой, не только не трусил, но, кажется, откровенно вызывал его, районного атамана, на драку. Что-то в этом было не так. Хорошо бы для надёжности сперва разобраться, откуда возник залётный орёлик. Но роковое слово уже было произнесено. Кто-то из своих подхихикнул. Выжидательно прищурился Меншутин. И спустить публичное оскорбление стало невозможно.
– Шмась сотворю, паскуда! – стращая, выкрикнул Загоруйко. Нависнув сверху, потянулся к горлу. Неосторожно потянулся: полностью открыв подбородок. Даже не имея точки опоры, с ногами, не касающимися земли, Клыш, отклонившись, провёл короткий боковой, от которого Кальмара швырнуло лицом о стол.
Сам же Клыш, продолжая движение, перекатился через спину и спрыгнул на землю. Разминаясь, попружинил на ногах.
Вскочил и Кальмар. Утёр потекшую юшку, заозирался. Отовсюду видел выжидающие лица своих, кребзовских, ждавших команды к нападению. Они уже оттеснили перепуганных Гутенко и Першуткина за беседку. Подле Клыша оставался единственный – ощерившийся Оська, с обломком штакетника.
Да ещё от подъезда мчался замешкавшийся Алька. Разметал с разгону попавшихся на пути, пробился к своим. Так что вся троица оказалась в кольце.
– А ну, ребя, замочим! – прорычал Загоруйко. Пересекся взглядом с Меншутиным. – Боб, видал фрайера галимого?
– Видал! – подтвердил Меншутин. – Так замочи!
Он уже признал в гитаристе того самого пацанёнка, что когда-то рыдал рядом с ним в песочнице.
Жестом остановил массовую драку:
– Остальным – никшните! Пусть сами разберутся.
– Так ведь один на один пришибу, как бы не на смерть, – неуверенно хохотнул Загоруйко. – Удар-то под сто килограмм. Из-за каждого салабона после сидеть!
– Всё так серьезно? – Клыш жёстко усмехнулся. Придержал рвущегося в драку Альку: – Извини, Ёжик! Но придётся тебе в очередь становиться! Пока ты ходил, он на меня кинулся. Все равно что на дуэль вызвал. Так что за мной право первой ночи!
Алька, хоть и разгадал хитрость, посторонился. Для виду – неохотно. На самом деле, благодарный другу за деликатность, – сломанная рука всерьёз ныла.
Клыш предвкушающе потёр руки. В груди его, как всегда при опасности, сладко заныло.
– Стало быть, благородный дон, предлагаете насмерть? – изысканно обратился он к Загоруйко. – Достойное, очень мужское предложение… Дуэль!!! – только что не пропел Клыш, будто трубадур перед турниром.
– Ч-чего? – Загоруйко смешался.
– По-честному, говорю, предлагаешь. Чего впрямь других в стрёму втягивать? То ли дело насмерть, и чтоб никого не подставить.
Он ткнул в пожарную лестницу, проступающую сквозь туман.
– Лезем на крышу! Один на один, без свидетелей. Жесть мокрая. Скаты крутые. Побеждённый падает и – хрюслом об асфальт. С концами. Винить некого. Как у Печорина с Грушницким.
Глаза его блестели бешеным весельем.
От слова «с концами» Загоруйко перетряхнуло. Кто такой Грушницкий, припоминалось смутно. Зато живо представил себя, летящего кулём с верхотуры и смачно шмякающегося о щербатый асфальт. Даже расслышал хруст головы! Собственной. Единственной.
А ещё, как вспышка, припомнил самого задиру. Клыш, точно! В двенадцать лет, единственный среди пацанов, с пятиметрового пирса подныривал под плывущую самоходную баржу. И кличку вспомнил – Безбашенный.
– Ты у меня здесь обделаешься, дуэлянт хренов! – закричал он надрывно и внезапно ударил.
Но Клыш, разгадавший эту двуличную натуру, успел уклониться и тут же провел смачную двойку, сбив противника на землю.
Кальмар, озадаченный увесистыми попаданиями, попытался подняться. Клыш ему этого не позволил: ловко подловил ударом в челюсть снизу.
Выжидающе затанцевал рядом, жестом предлагая попробовать ещё.
Растерявшийся Загоруйко, ёрзая на заду, отползал, перебирая руками траву. К своей удаче, нащупал чугунную крышку, кинутую возле открытого канализационного люка. Перекатившись, ухватил в лапищи. Размахивая, как щитом, вскочил. Пару раз махнул сверху вниз, норовя обрушить на голову противнику. И вдруг на выдохе, с сапом швырнул, целя в грудь. Клыш едва успел увернуться.
Внезапный двойной вскрик отвлёк Даньку. Один из кребзовских, провоцируя, подпёр Поплагуева вплотную. Тот наотмашь, не примеряясь, хлестнул гипсом. И оба закричали. Кребзовец, схватившись за окровавленный нос, Алька – за травмированную руку.
В ту же секунду Кальмар прыгнул на зазевавшегося Клыша. Навалившись всей массой, опрокинул на спину. Ухватив в лапищу жменю земли, хлестнул по глазам, уселся сверху, поёрзал, изготавливаясь к долгой победной молотьбе.
Но больно ловкий достался ему супротивник. Хоть и подослепший, угрем вывернулся из-под навалившейся туши, отбежал, протирая на ходу глаза, сбросил разорванный при падении джемпер, под которым обнажилось жилистое, будто из жгутов тело. Проморгался.
С этой минуты осатаневший Клыш больше не играл. Избивал, не жалеючи.
Кальмар попробовал ещё раз подмять его под себя. Бесполезно! Скорость быстро возобладала над неповоротливой силой. Загоруйко ещё замахивался, с сапом, с оттягом, а Клыш уж подкрадывался поудобней и, опережая, на скачке, бил. Отскакивал и – вновь бил. Уже под другим углом.
– Нож! – Оська увидел, как Кальмару протягивают открытое лезвие и в то же мгновение полоснул по протянутой руке штакетиной. Нож выпал. Граневич принялся неистово размахивать доской.
– Поубиваю! – заорал он, и в самом деле попытался ткнуть остриём в горло ближайшему. Алька успел первым поднять нож. Ухватив за лезвие, отвёл руку, будто выискивая, в кого метнуть. Круг тотчас разорвался. От припадочных шарахнулись.
Меж тем драка перешла в избиение. Широкое плоское лицо Загоруйко превратилось в кровавое месиво. Ему сделалось больно, а ещё больше – страшно – при виде злого веселья, овладевшего противником. После очередного падения Загоруйко уже не попытался встать, а поднял голову, взглядом моля о пощаде. Будь на месте Клыша благородный Поплагуев, наверняка бы простил – протянул руку, поднял, отряхнул. Но Клыш успел узнать в училище эту коварную породу, признающую лишь силу и страх. Потому насмешливо показал на открытый канализационный люк. Для убедительности смачно врезал ногой по печени. От оглушающей боли Кальмар взвыл, перевернулся на четвереньки и – пополз. Не думая больше ни о защите, ни о том, чтобы сохранить пристойный вид. Смешно отклячивая пухлый зад, постанывая и всхлипывая. Клыш сопровождал. Подняв веточку, изредка направляя движение, охлопывал хворостиной по бокам, гнал, будто хряка к стойлу. Загоруйко дополз, наконец, до канализационного люка, из которого густо тянуло нечистотами. Вновь с мольбой глянул снизу вверх. Но безжалостный мучитель подстегивающе покачал ногой, как бы примериваясь к новому удару. Ничего уж вовсе не соображая, желая хоть как-то, но покончить с жутью, Загоруйко толстым дождевым червём втиснулся в вонючий люк.
И тогда Клыш поднял крышку и аккуратненько водрузил её на место.
Это было даже не унижение. У всех на глазах в одночасье разнесли на осколки районного атамана.
Воцарилось ошарашенное молчание. Кребзовские, не зная, на что решиться, выжидали. Сбились плотнее, спина к спине, трое друзей. У беседки притаились оправившиеся Гутенко с Першуткиным. Сами собой все взгляды сошлись на Меншутине.
– Что ж, всё было по-пацански, по понятиям, – рассудил Кибальчиш. – Без претензий. И – достаньте кто-нибудь этого вонючку.
Тотчас от беседки отделился ликующий Гутенко.
– Остановись, мгновение! – возопил он. – Парни! Засеките время! На всю жизнь засеките! Ведь мы только что мужиками стали!
Воздел победно руки. Взгляд Меншутина скользнул по циферблату его часов. Спохватившись, он шагнул к забору, отделявшему двор от Малой Самары, и – замер: в сгущающихся сумерках через забор перелезали два милиционера.
– Влип, как мокрощелка! – со стоном обругал себя Боб. Развернулся к арке.
Поздно! С двух сторон – от арки и от химтехникума – с сиреной и включённым дальним светом, во двор влетели машины ПМГ (передвижные милицейские группы), из которых принялись выскакивать люди в форме. «Пятачок» у беседки осветило фарами.
Пацаньё бросилось врассыпную. Шмыгнул к спасительным кустам и Поплагуев.
– Где Данька? – остановил его голос Граневича. Оба принялись озираться в сумерках. И оба одновременно увидели Клыша – рядом с Меншутиным.
Боб Меншутин скрыться не успевал, так как от арки уже бежали к нему трое милиционеров. Ещё двое, те самые, что перелезли через забор, перекрывали Малую Самару.
Меншутин ухватил за рукав единственного оставшегося рядом – Клыша.
– Уйти сможешь? – прохрипел он.
– Если подвалами, легко. Я там все ходы знаю. Менты не пролезут, а я просочусь. И тебя проведу!
– Со мной не уйдёшь. Они как раз по мою душу.
– Так тем более.
– Держи! – Клыш ощутил тяжелый сверток, что пихнул ему Меншутин. – Спрячь или – в Волгу! Главное, чтоб с концами… Дуй! Я отвлеку! – Меншутин метнулся к двоим ближайшим, сгрёб на землю сразу обоих.
– Он! Это он самый! Держу! – раздался выкрик из клубка. Ещё двое в форме кинулись на подмогу.
Алька с Оськой всё это видели. Видели, как Кибальчиш что-то сунул Даньке, и тот побежал. Как через мгновение принялись крутить самого Кибальчиша.
– Фёдоров, лови пацана! Он ему что-то передал! – закричали из темноты. От беседки отделились ещё двое и побежали, отсекая Клыша от подъезда.
– Слева! – завопил Алька. Поняв, что уйти Клыш не успевает, метнулся наперерез преследователям. Сзади пыхтел Гранечка. Счет шел на сантиметры. Ближайший милиционер уже руку протянул, чтоб ухватить Клыша за плечо. Но тут на него сбоку напрыгнул Алька, сбил с ног и, не выпуская, покатился по асфальту. Так что Клыш успел юркнуть в подъезд. Оська, нырнувший под ноги следующему, здоровяку в штатском, оказался не столь проворен. Тот перепрыгнул через пухлое тело и следом за Клышем вбежал в подъезд, и дальше – в подвал.
Данька мчался по узким подвальным переходам. Все эти тупики, лазейки, скрытые ходы меж подъездами были освоены с детства – при игре в казаки-разбойники.
Здоровяк – оперуполномоченный угрозыска Саша Фёдоров поспешал следом. Несмотря на внешнюю грузность, Саша был хорошо тренирован, – по утрам пробегал по три – пять километров. И легко нёс свои сто килограмм боевого веса. Но темп, что задал проворный пацан, оказался чрезмерен и для него. Дыхания едва хватало, чтоб не упустить из виду мелькавший впереди силуэт. Наконец, разглядел его – метрах в двадцати, упёршегося в глухую стену. Успокоившийся Саша, выравнивая дыхание, перешел на шаг. Спешить было не к чему, – беглец загнал себя в ловушку. Но, когда завернул следом, увидел перед собой лишь стену, сквозь которую шла труба парового отопления. Да ещё успел заметить мелькнувшую подмётку. Раздвинул пальцы – большой и мизинец, промерил зазор меж трубой и стеной, озадаченно крякнул. Протиснуться в узенькую щель меж ними казалось немыслимым.
– Вот вёрткий, гадёныш! Чисто – ящерица, – восхитился Фёдоров. Восхитился, впрочем, без сердца. Из криков снаружи он уже знал, что главное сделано: подельник Лапы, участник группового разбойного нападения Борис Меншутин пойман и водворен за решетку ПМГ.
Проскочив для верности ещё пару подъездов, Данька отдышался, затих, прислушиваясь. Кажется, было тихо. Тогда он достал из-за пазухи заплесневелый от сырости сверток, положил на трубу отопления, развернул.
На бурой тряпице лежал черный, пахнущий порохом револьвер.
«Звездные» арестанты
Оську и Альку – единственных пойманных – два сержанта как раз запихали за решётку милицейского уазика, когда из глубины двора донёсся бубенчатый перезвон, и в свете фар высветилась нетвёрдая в ногах мужская фигура. В широкой, с загнутыми полями шляпе.
– Мои уже здесь? – любезно поинтересовалась фигура заплетающимся голосом.
– Тебе-то чего? – ответил патрульный сержант. – Иди, пока самого не забрали. От ветра шатаешься.
– Уходи, в самом деле! – поддакнул милиционерам Алька, узнавший Котьку Павлюченка, нового их дружка. Не признать его по колокольчикам, пришпандоренным к клешам, было невозможно. Накануне Алька вскользь упомянул о готовящейся драке. Но был уверен, что тот по вечному пофигизму пропустит мимо ушей. И вот на тебе – объявился!
– Не нарывайся! Тебя ж, идиота, завтра в партию принимают! – взмолился вслед дружку и Оська. – Два года под это биографию подчищал!
– Да гори эта партия огнём! Дружба дороже! – разудало выкрикнул Котька.
Доверительно приобнял сержанта.
– Моя фамилия – Павлюченок. Через «ю».
– И что с того?!
– А то, дебил, что Павлюченок друзей не бросает, – надменно ответили ему.
– Раз дебил – давай до кучи, – согласились милиционеры.
Более не церемонясь, ухватили с двух сторон и с разгону вколотили внутрь. Дверца захлопнулась.
Павлюченок кое-как поднялся, распространяя запах вонючего рома «Гавана». Вздохнул скорбно.
– Извини, Алый! У Штормихи завис. В час помнил, что к тебе обещался. И в два помнил. А потом как-то так сладко сделалось… Но до чего хороша сучка!.. Так чего, опоздал?
Оська с Алькой кисло переглянулись – успел-таки на свою голову!
Машина дёрнулась. Павлюченка подбросило и задом прочно всадило внутрь баллона, так что длинные ноги с остроносыми, будто рашпилем заточенными шузами беспомощно болтались снаружи. К райотделу летели под колокольный перезвон. Сам их обладатель, в люлю пьяный, беспробудно спал внутри баллона. По румяной щеке несостоявшегося кандидата в члены КПСС стекала густая слюна.
С бывшим секретарём школьного комитета комсомола Константином Павлюченком жизнь вновь свела Альку Поплагуева год назад на химкомбинате, в кабинете дяди Толечки. Алька принес ходатайство о покупке инструментов для школьного ВИА. Земский пригласил секретаря комитета комсомола. Вошёл юноша в лавсановом костюмчике с искоркой, нейлоновой рубахе с острым воротником, с прилизанными волосами и глазами, скромно опущенными долу. С раскрытым в готовности блокнотцем. Алька даже не сразу узнал кичливого школьного секретаря. «Эким Молчалиным заделался», – подумалось Альке. Земский передал ему на исполнение ходатайство.
– Сделаю! Обеспечу! – горячо заверил Павлюченок.
Они вышли. Зашли в помещеньице комитета комсомола, увешанное вымпелами.
– Так в самом деле сможешь достать? – уточнил Алька.
Павлюченок потянулся с хрустом, распрямил плечи, оказавшись ладным и высоким. Глянул в упор влажными, чуть заспанными глазами.
– Коны есть, – прикинул он. – Но! – он поднял длинный холёный палец. – Взамен берёшь меня в свой ансамбль. Давно мечтаю на эстраде сбацать.
Такой засады Алька не ожидал.
– На чём играешь? – кисло уточнил он, предвидя ужас: на сцене набриолиненный джазист в «поточном» костюмчике с камвольного комбината, с комсомольским значком на лацкане.
– На чём понадобится, на том и сыграю! – отчеканил Павлюченок. Оценил вытянувшуюся физиономию. – Да нет! Можешь, конечно, отказать.
Он выдержал мхатовскую паузу, так что стало ясно: можешь, если не очень нужны инструменты.
Деваться было некуда.
– Ну попробуем! – неохотно согласился Алька.
Через день вечером, когда ВИА собрался на репетицию в школьном актовом зале, в пустом коридоре раздался колокольный перезвон. Вошёл ковбой. В немыслимых иссиня-чёрных клешах в пятьдесят сантиметров, с бубенчиками по низу. В ослепительно-белой водолазке и сдвинутой на затылок широполой шляпе.
– Ты, что ли? – не сразу поверил Поплагуев.
– А то!
– Ладно. Попробуй на бас-гитаре.
Попробовал. Оказалось, что слуха у нового оркестранта нет вовсе. Зато всё в порядке оказалось с экспрессией. Лупил по струнам медиатором самозабвенно, начисто забивая остальных. Даже взмок от усердия.
В перерыве вышел. Оркестранты переглянулись.
– Цена вопроса – качественные инструменты, – напомнил Алька.
– Если от сети втихаря отключить, вполне себе ничего, – съехидничал Гутенко.
– Посадите на литавры, – предложила Наташка.
И в точку. В отличие от слуха, чувство ритма оказалось безупречное. Вскоре новичок истово колотил тарелками друг о друга. Подбрасывал, ловко ловил. Да ещё и бубенцами «подрабатывал». На первом же концерте разудалый стильный ударник привлёк всеобщее внимание.
Через пару дней Поплагуев зашел в комбинатовский комитет комсомола. Павлюченок всё в том же «лавсанчике» в одиночестве, высунув язык, конспектировал томик Маркса.
– К семинару готовлюсь, – объяснился он.
– Ты и впрямь в эту лабуду веришь? – не удержался Алька.
– А куда денешься? – не замедлил с ответом тот. – Это у вас папаши-мамаши. Рука слева, лапа справа. А я – косточка рабочая. Другого способа в люди пробиться нет. А через комсомол я сперва в партию вступлю. Как партийный – в аспирантуру. Неужто кандидатскую не вытяну?
– В науку тянешься? – Алька заинтересовался.
– В начальники КБ тянусь. Если кандидатскую защищу, то через неё на комбинат номенклатурой вернусь. У меня весь маршрут просчитан. Вот хоть ваш ВИА! Думаешь, сам про себя не понимаю, каков музыкант? Зато слава по городу – «Благородный дон». А сейчас как раз поветрие – поддерживать молодёжные ВИА. Стало быть, мне по комсомолу лишний плюсик – заметил, оценил, поднял на должную высоту.
Доверительно пригнулся:
– А ещё я в комсомолок верю. Такие супер-люпер попадаются! В кабаках таких на раз-два не снимешь.
Котька Павлюченок вышел из низов. Мать – прядильщица штапельного производства, отец – мичман-подводник, пропадавший по полгода в походах и не каждый раз всплывавший в семье. Книг в доме не было.
Пацаном на сеансе «Ромео и Джульетты» сопел и толкал соседей локтями, допытываясь, чем все закончится. Над ним смеялись.
Свою ущербность Котька ощущал остро, хотелось быть не хуже других. Уже в начальных классах сообразил, что рассчитывать на родительскую поддержку не приходится и строить биографию предстоит самому. После восьмого класса юного Котьку вовлекли в компанию книжных фарцовщиков. Вскоре он бойко торговал редкими книгами и великолепно знал, почем, например, идет Рильке. Но кто такой Рильке и о чем он пишет, Котьке было невдомек, что вызывало снисходительные усмешки библиофилов. Чтобы избежать насмешек, засел за чтение авангарда. Перестрадал Гессе и Камю, перетерпел Кафку, но на Кортасаре «сломался» и тихо возненавидел весь андеграунд. А Майн Рида любил. Но за него «сверху» не платили.
Учёба, увы, давалась с грехом пополам. На престижный вуз рассчитывать не приходилось.
Не сложилось и с музыкой. Записался в кружок при Дворце культуры. Три аккорда на гитаре разучивал месяц. Другие за это время вовсю наяривали сударыню-барыню.
– Да-а! Это надо подумать, – озадаченно протянул преподаватель.
– Господи! – взмолился, выйдя из студии, Котька. – Зачем, наказав меня честолюбием, не дал таланта?! Посоветуй хоть, куда податься?
Господь не ответил. Но Котька и сам догадался: в комсомол.
По этому маршруту и двинулся. К выпускным классам выбился в секретари комитета комсомола школы. С учёбой было по-прежнему напряженно, но комсомольскому вожаку учителя «шли навстречу» – так что школу закончил крепким середняком. После школы пошёл на химкомбинат, в конструкторское бюро, чертёжником. Чертить обожал. Бывало, засиживался за кульманом до ночи. Приблизились перевыборы комбинатовского комитета комсомола. КБ выдвинуло кандидатуру своего чертёжника. Вопросов к социальному происхождению и к биографии не возникло – рабочая косточка. Спустя год заочно поступил на престижный химико-технологический факультет. Помог статус секретаря комитета комсомола крупнейшего предприятия. Стал подумывать об аспирантуре. В Павлюченке будто соседствовали два разных человека.
На работе переодевался в костюмчик с комсомольским значком – будто офицер на дежурстве в форму. В углу, возле чертёжного кульмана, неизменно лежал тоненький потрепанный Устав ВЛКСМ. Под ним – материалы последнего съезда, в котором бдительный Котька не забывал перекладывать закладки. После работы Павлюченок натягивал клеша и спешил к последней любовнице – фотографу по договору Мари Шторм.
По натуре был он пофигистом и любителем постебаться.
Сейчас как раз подоспело время торжествовать оборотному лику – назавтра молодого выдвиженца из рабочей среды должны принимать кандидатом в члены КПСС. И это был ключевой шажок. Далее – рекомендация от парткома комбината и поступление в долгожданную аспирантуру. А после – кандидатская степень и возвращение на комбинат с повышением – как мечталось, начальником КБ.
В дежурной части Зарельсового райотдела милиции в двенадцатом часу вечера всё ещё было нескушно. Длинная скамья, протянувшаяся вдоль зарешёченного окна, от стены до стены, поскрипывала под тяжестью тел. В уголке, съежившись, притулились Поплагуев и Граневич. Подле, у батареи, прикрывшись широченной шляпой, похрапывал Павлюченок.
В центре же скамьи бузили фарцовщики, доставленные из валютного бара мотеля «Берёзовая роща».
Угоревший за сутки подменный дежурный, пожилой сельский участковый Яблочков с брезгливой миной разглядывал рапорт, из которого вытекало, что задержанные братались в баре с шведскими и финскими туристами, пили с ними на брудершафт, отплясывали летку-енку, обменивались сувенирами и даже расплатились за коньяк и коктейли шведскими кронами.
Яблочков недоумевал. Судя по протоколу, двое из них были людьми солидных, в представлении сельского участкового, профессий. Один – со снулыми глазами, то и дело падающий со скамьи, – врач со станции переливания крови Василий Липатов, другой – Марк Забокрицкий – и вовсе, судя по удостоверению, завотделом областной молодёжной газеты «Смена».
И хоть за связь с иностранцами и фарцовку им, несомненно, грозило увольнение, а может, и уголовное дело, держались они вполне беззаботно.
Особенно досаждал усевшийся прямо на полу крупный малый с патлами, перетянутыми банданой, пухлыми вывернутыми губами и рыжими ошметками на подбородке.
– Что? И борода на такой физиономии расти не хочет? – съязвил, заполняя бланк, Яблочков.
– А это наше с ней дело. А тебе, старлей, за подлые твои слова еще одну звездочку снимаю, – под одобрительные выкрики приятелей «отбрил» патлатый.
С того момента как фарцовщиков доставили в райотдел, это была уже третья – и последняя – звездочка, которой лишил его патлатый бузотёр.
– Ай-я-яй! – посетовал Яблочков. – А я-то на повышение рассчитывал. Стало быть, не ходить мне в капитанах?
– Еще чего? Губы раскатал, жандармюга! Улицы у меня мести пойдешь, – радостно подтвердил патлатый, не заметив, что в запале перегнул палку, – услышав насчет жандармов, двое патрульных сержантов недобро переглянулись.
– Что ж, горько мне, бедолаге, – поплакался Яблочков и – уже другим голосом – потребовал: – Твоё фамилие!
– Твоё! Церковно-приходскую школу, поди, заканчивал? Да и там, небось, из двоек не вылезал? – патлатый, не стесняясь, схаркнул. – Набрали вас тут, деревню. Сразу видно: бытие определяет сознание. Фамилия у меня знаменитая. На ней, почитай, вся ваша область держится.
Он улегся на пол, закинул руки за голову и безмятежно уставился в потолок.
И напрасно. Потому что один из сержантов с предвкушающей ухмылкой шагнул от стены. Потянулся, перехватив дубинку, другой.
– Что именно из заграничных шмоток выцыганили у иностранцев? – неприязненно поинтересовался дежурный.
– Кто? Кого?! Кому? Ты видел? Зенки протри! – заблажил патлатый.
– Еще раз схамишь – поучим, – предупредил Яблочков. – Повторяю вопрос: «Сколько валюты выменяли у шведов?»
– Ну ты все-таки пень! – патлатый уселся на пол. – Уж на что у нас в универе профессура дуб на дубе, но ты их всех вместе взятых потянешь… Ой, суки!
Он согнулся от увесистой сержантской оплеухи.
– Бьют, паскуды, – с каким-то мазохистским удовлетворением сообщил он притихшим приятелям. – Всех в свидетели – Робика бьют! А батяня не верил. Я ему говорил, что в ментовке бьют! А он, наивная душа, не верил. Но теперь чек-аут! Искореним коррупцию! Батяню сюда! И – палача.
Он опрокинулся на спину и, пьяно гогоча, принялся крутить ногами велосипед. Замелькали белые, на толстом микропоре шузы.
– Не припадочный, часом? – засомневался Яблочков.
– Да не. Баулин он, – подсказал Забокрицкий. Поймав заметавшийся взгляд старлея, сочувственно оттопырил нижнюю губу.
На какое-то время жизнь в дежурной части затихла. Услышав фамилию первого секретаря обкома партии, крутившиеся тут же члены опергруппы принялись поглядывать на дежурного.
– Еще один однофамилец-самозванец, – неуверенно произнёс Яблочков.
– А вот и нет, – патлатый всё так же лучезарно улыбался чему-то своему. – Как раз наоборот. Как раз вовсе и сын. Родная кровя. Которую вы пустили.
Он утер разбитую губу, продемонстрировал окровавленный палец и отчего-то вновь загоготал.
– Бумаги ихние, – Яблочков, багровея, протянул руку за спину. Там, за пластмассовым стеклом, старшина-помощник шуровал меж непрерывно звонящими телефонами.
Не отрываясь от очередного разговора, старшина протянул через круглое отверстие пачку отобранных при задержании документов.
Несколько нервно Яблочков перебрал их. Поднял диплом – последний в стопке; прикрыв глаз, заглянул – будто карту в очко потянул.
– Так, сядьте как положено, гражданин Баулин Роберт… э…
– Серафимович! – охотно подсказали со скамьи.
– Сам вижу! – Яблочков помрачнел. – Значит, получаешься, – высшее образование. И в чём твоя образованность? Шмотки у заграничных иностранцев выклянчивать?
Смешливый Алька прыснул.
– Не по твоему статусу о таких субстанциях судить, – огрызнулся патлатый.
– Чего? – не понял Яблочков.
– Да то-то что ничего! Так, философские словеса на шампур нанизываю. Только ты об этом, пень дремучий, не догадываешься. Яблочков нахмурился:
– А вот интересно, чего батя скажет, как узнает, из какого бара тебя выколупнули? Он-то день и ночь об областном благе печётся. А сынок вместо, чтоб знамя по жизни подхватить, у иностранных подмёток трётся. В пьяном виде подношение выклянчивает… Глянь на себя: пиджак, будто у клоуна, галстук лопатой… Чистый попугай!
Баулин обеспокоенно скосился на жёлтый, крупной клетки пиджак. Да нет, всё вроде нормально.
– Понимал бы чего, трухлявый, – пробурчал он.
Яблочков сделал вид, что не расслышал.
– Ничо, ждите пока, – отреагировал он. – Скоро Андрей Иванович, начальник угрозыска, с происшествия вернется. Он вас живо ранжирует. Отделит философов от спекулянтов.
– А с нами что? – напомнил о себе Алька.
– С вами как раз ещё хужее, – Яблочков отложил протокол из мотеля, взял другой – по задержанию Меншутина. – За нападение на работников милиции – это ж знаете, по скольку вам корячится?
Компания фарцовщиков уважительно притихла. Даже «отвязный» Баулин крутнулся на ягодице и со свежим интересом принялся разглядывать юных соседей.
Душистый, гортанный зевок, сопровождающийся перезвоном бубенчиков, покрыл прочие звуки.
– И де это я? – пробудившийся Павлюченок сдвинул шляпу на затылок, озадаченно поворошил вороные волосы.
– В кутузке, – охотно разъяснил патлатый.
Павлюченок перевёл недоумённый взгляд на него.
– Баула?! А ты тут откуда?
– От верблюда, – доходчиво ответил тот. – Шведского. Груженного кронами.
Павлюченок оторопело оглядел ковбойскую шляпу в руке. Увидел Альку с Оськой по соседству. Пазл сложился. Всё вспомнилось. Большие, сонные глазищи его расширились, будто от атропина.
– Мать твою! Меня ж поутру в партию должны принимать! – он застонал. – Как же я лажанулся!.. Но на хрена?!
– Потому что дружба дороже, – напомнил ехидный Оська.
– Какая ещё, к едрене фене, дружба?!.. Мамочка моя! Ну почему ты родила меня таким долбаком?! Это ж всё, к чему псом подползал, в лавсане домотканном ходил, уставы грёбаные зазубривал… И разом облом?..
Павлюченок с размаху приложился виском о штукатурку.
У крыльца скрежетнули тормоза. Яблочков приподнялся:
– А вот и Трифонов возвернулся – по ваши души.
В дежурную часть вошел рослый мужчина в ладной на нем капитанской форме. Мокрый, с озорной большеротой улыбкой. Даже оттопыренные уши не портили. Ещё и добавляли привлекательности.







