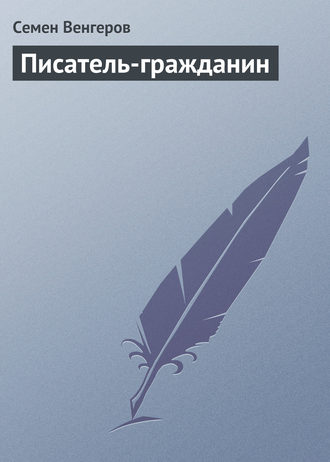
Семен Венгеров
Писатель-гражданин
Так-то, катясь подобно лавине, растет и принимает безобразные размеры всякое неверное или одностороннее мнение. Впервые пренебрежительно заговорил в печати о профессорстве Гоголя известный ориенталист Григорьев в своей некогда (1856-57) столь нашумевшей и всех возмутившей статье о Грановском. Но у того были совсем особые цели: обаяние Грановского, обладавшего довольно ограниченными специальными знаниями, поселяло самое недружелюбное отношение к нему в сердцах разных завистливых специалистов à la Григорьев, богатых знаниями, но бедных нравственными силами. Григорьев всячески старался подчеркнуть незначительность научных сил Грановского и тут-то, для характеристики уровня той научной среды, из которой вышел Грановский, и понадобился Гоголь в роли профессора всеобщей истории. И вот, проходя разные промежуточные фазисы, отрицательное отношение к Гоголю-профессору, постоянно упускало из виду историческую точку зрения, постоянно имело пред собою как единицу сравнения позднейших крупных историков наших и становилось все резче и резче, пока, наконец, пришел психиатр и не усмотрел тут симптом будущей форменной душевной болезни Гоголя! Уже если признать стремление Гоголя занять кафедру «почти патологическою странностью», то дадим только пощаду хлопотавшим за него Пушкину и Жуковскому, как неспециалистам, а затем, чтобы быть последовательными, причислим в полупомешанным и Максимовича, и Никитенко, и Брадке, и Уварова, и особенно Погодина. В себе-то еще всякий человек ошибается, а они чего посходили с ума, да сажали на кафедру человека, совершенно её недостойного.
Читатель поймет, почему мы так долго останавливаемся на профессорстве Гоголя. Для нас, помимо того, что хочется положить начало более правильному отношению к одному из любопытных эпизодов биографии великого писателя, есть тут другая, весьма, важная сторона. Для нас, в наших стараниях показать, что Гоголь был не только человек бессознательного творчества, но и писатель, вполне сознательно намечавший цели своих произведений, в высшей степени важно выяснить, что Гоголь принадлежал к высшей интеллигенции своего времени. Это не прасол Кольцов, сильный единственно природным гением. Пусть Гоголь и весьма малознающий ученый с позднейшей точки зрения, пусть нас поражаете, то, что человек, плоховато кончивший гимназию, через два года получает предложение занять кафедру в московском университете, а через шесть, без всяких экзаменов и диссертаций, в самом деле становится профессором. Нам только важно показать, что в свое-то время в этом не было решительно ничего экстраординарного и что Гоголь был вполне нормальным кандидатом в профессора. Пусть только читатель из всех приведенных нами фактов удержит в памяти то, что Максимович, тоже без всяких экзаменов и диссертаций, прямо с кафедры ботаники был перемещен на кафедру словесности, и никто нас не упрекнет в парадоксальности, если мы покамест (дальше мы потребуем большего) поставим такой тезис: Гоголь, отвергший свои предложения занять кафедру, добивался затем сам профессуры в Петербурге с научным багажом, достаточным для обычных академических требований начала 30-х годов.
В своей защите притязаний Гоголя на профессорство и, однако, не намерены защищать самое профессорствование Гоголя, длившееся больше года. Оно, несомненно, было неудачно, судя по отзывам современников. Но причины тут были совсем другие и при рассмотрении их мы убеждаемся, что одного приравнивания Гоголя к типу среднего профессора начала 30-х годов мало, что Гоголь по тем задачам, которые себе ставил, стоял несомненно выше очень многих из своих университетских товарищей.
Если бы, в самом деле, те, которые так сурово отнеслись к Гоголю-профессору, имели бы пред глазами 6-й том Тихонравовского издания Гоголя (появился в 1896 г.), где помещены выдержки из гоголевских записных книг, они бы поняли, что причина неудачного профессорствования Гоголя, главным образом, лежала в широте замыслов его. В подготовительных работах Гоголя к будущим лекциям мы находим как программу всего курса, так и наброски отдельных лекций. А так как Гоголь вообще был крайне неаккуратен и множество лекций пропускал, то можно прямо сказать, что все свои лекции Гоголь читал, предварительно составив себе подробнейший остов. Это свидетельствует не только о выдающейся добросовестности Гоголя, но и о желании блестяще поставить свой курс и внести в него что-нибудь новое. И это-то стремление и подкосило Гоголя, который к тому же был страшно занят как раз тогда же окончательной отделкой «Ревизора». Известно, что в столь неблестяще сложившейся профессорской карьере Гоголя было, однако, два блестящих момента. Один из них – вступительная лекция, появившаяся затем в печати в «Журн. Мин. нар. просв.» и «Арабесках» («О средних веках»), другой – лекция, характеризующая эпоху арабского калифа Аль-Мамуна, тоже вскоре напечатанная (в «Арабесках»). Последнюю лекцию Гоголь тщательно обработал, ожидая, что к нему заглянут в аудиторию Жуковский и Пушкин. Они, действительно, приехали, Гоголь превосходно прочитал свою эффектную характеристику и очаровал как своих высоких покровителей, так и слушателей. Таким образом, несомненно, во всяком случае устанавливается, что Гоголь мог бы быть прямо выдающимся профессором. Но понятно, это требовало огромной работы. Читать еженедельно две «'блестящие» лекции такого типа, какие Гоголь прочитал в присутствии Пушкина и Жуковского, было страшно трудной задачей. Трудно не потому, однако, что тут требовалось особенно много специальных знаний – Гоголь, как мы сейчас увидим, имел для этого достаточно источников под руками – а по причинам чисто литературного свойства. Всякий, кто заглянет в мало-читаемые гоголевские «Арабески» и ознакомится с характеристикою Аль-Мамуна, тотчас увидит, что это почти беллетристика, ряд картин и силуэтов чисто-художественного пошиба. Гоголь писал ее с тем же художественным обдумыванием и увлечением, с каким писал почти одновременно характеристику казачества в «Тарасе Бульбе», т. е. составляя самую тщательную мозаику из наиболее ярких черт и набрасывая одну широкую картину. Но где же было справиться с такого рода обработкой в короткий промежуток между двумя лекциями, да еще при той крайней медленности, которая характеризует творчество Гоголя. У него годами созревали даже самые мелкие по объему произведения. Лекции нельзя было высиживать годами, и оттого-то Гоголь так быстро и осекся. Банально он не хотел читать, а читать блестяще не хватало времени.
Так вот где истинная причина того, что университетская деятельность страшно занятого в то время своими художественными замыслами Гоголя потерпела неудачу. А специальных знаний, как мы уже сказали, у Гоголя было достаточно, чтобы прочитать курс, вполне удовлетворяющий скромным требованиям того времени. В примечаниях в 6-му тому Тихонравовского издания (стр. 689) напечатан список книг исторического содержания, которые впоследствии Гоголь подарил другу своему А. С. Данилевскому и которыми своевременно несомненно пользовался, готовясь к лекциям. Это список весьма приличный. Кроме книг общего значения («Cours de literature franèaise» Вильмена, его же «Mélangés philosophiques, historiques, et littéraires») мы находим тут «Introductions à l'histoire universelle» Мшилэ, французский перевод Гердеровских «Идей о философии истории человечества», «Историю падения римской империи» Гиббона во франц. переводе Гизо, «Всемирную историю» Иоганна Миллера во франц. переводе, «Dix ans d'études historiques» Огюстена Тверри, его же «Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands» и др. Но это, однако, далеко не все пособия, бывшие у Гоголя под рукою. Помимо книг на русском языке, напр., трудов Беттихера и Герена, о которых Гоголь даже переписывался с Погодиным, тут нет той прекрасной книги по истории средних веков – Галламовской «History of Middle Age», французским переводом которой, как это показал Тихонравов, Гоголь особенно много пользовался. Следы знакомства с поименованными выше книгами и другими пособиями де трудно проследить как по напечатанным историческим статьям Гоголя, где мы находим, напр., специальную характеристику историософических взглядов Шлецера, Иоганна Миллера и Гердера, цитаты из лекций Шлегеля и др., так и по ненапечатанным подготовительным работам к университетскому курсу. Так, в весьма обстоятельно составленной «Библиографии средних веков» (т. 6, стр. 278–277 и 684-86), часть пособий названа, несомненно, только по указаниям других библиографий, но при некоторых сочинениях сделаны краткия характеристики, показывающие, что Гоголь с ними хорошо знаком. Это именно: «История упадка римской империи» Гиббона, «История европейской цивилизации» Гизо, «Европа в средние века» Галлама, первые тома средней истории Демишеля. Следы пристального знакомства Гоголя с иностранными пособиями, которые были доступны ему только на французском языке, весьма своеобразно и наглядно сказалась в том, что множество исторических имен второстепенного значения, для которых еще не установилась русская транскрипция, у Гоголя встречается во французском произношении. И уже одна эта мелочь удивительно ярка и характерна. Она наглядно доказывает, что Гоголь несомненно вносил в свое преподавание нечто свое, нечто такое, чего его предшественники не касались.
А теперь, когда мы бросили взгляд в самую лабораторию гоголевского профессорствования, спросим себя еще раз: так ли ничтожны были знания Гоголя для начинающего, двадцати пятилетнего лектора даже и не той эпохи? В первый же год чтения готовить для каждой лекции подробный конспект по ряду превосходных пособий – это по тому времени было явлением прямо из ряду вон выходящим.
Закончим наш экскурс несколькими замечаниями о статье Гоголя «О преподавании всеобщей истории». Из неё, в связи с перепиской, мы можем извлечь несколько черт, весьма ценных для нашего утверждения, что в эпоху высшего напряжения художественного творчества Гоголя он напряженно размышлял и над вопросами теоретического характера.
При современной специализации знания, когда человек, проработавши целую жизнь, не дерзает делать обобщений далее одного, двух столетий, трудно удержаться от улыбки, когда читаешь такое определение задачи всеобщей истории:
«Предмет её велик: она должна обнять вдруг и в полной картине все человечество – каким образом оно из своего первоначального, бедного младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и, наконец, достигло нынешней эпохи. Показать весь этот великий процесс, который выдержал свободный дух человека кровавыми трудами, борясь от самой колыбели с невежеством, природой и исполинскими препятствиями – вот цель всеобщей истории! Она должна собрать в одно все народы мира, разрозненные временем, случаем, горами, морями, и соединить их в одно стройное целое, из них составить одну величественную полную поэму».
Хотели бы мы видеть того наиученейшего историка, который взялся бы составить и преподавать курс по такой программе. Но, конечно, никто не поставит Гоголю в минус мечты о таком труде. Во времена Гоголя доживал свои последние дни, но не отжил, однако, совсем взгляд на историю как на «историческое искусство», при котором от историка требовалось не столько основательность разработки, сколько широта обобщений и художественная изобразительность. Еще не отошло в область преданий профессорствование поэта и медика по специальному образованию Шиллера, которому ученейший иенский университет предложил кафедру всеобщей истории за «Историю отпадения Нидерландов», с строго-научной точки почти не имеющую никакой цены и интересную только по блестящему литературному изложению. Еще вполне свежо было колоссальное впечатление, произведенное историей Карамзина, успех которой покоился не на эрудиции, а на художественной изобразительности и нравственно-политическом морализировании. Почти десять лет спустя после появления «Плана» Гоголя, Белинский, сам хотя и не специалист, но всегда отражавший круг представлений наиболее научно-образованных кругов своего времени, ставит историку такие же задачи (см. начало его статьи о «России до Петра Великого»).
Но если еще можно что-нибудь сказать с чисто-научной точки зрения против стремления превратить всемирную историю в «поэму», то именно в этой «ненаучности» нельзя не видеть чрезвычайно благоприятного обстоятельства для расширения творческого горизонта Гоголя в одну из самых напряженных эпох его духовной жизни, – в момент окончательной обработки «Ревизора». Тотчас по оставлении университета, 6 декабря 1835 г., Гоголь писал Погодину:
«Я расплевался с университетом, и через месяц опять беззаботный казак. Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с неё. Но в эти годы – годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся – в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня!.: Мир вам, мои небесные гостьи, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой в чердаку! Вас никто не знает, вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения: когда вы исторгнитесь с большею силою и не посмеет устоять бесстыдная дерзость ученого невежи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика» и проч. и проч… (I, 357).
Невозможно, конечно, с полною определенностью сказать, к какой сфере относятся те «исполненные ужасающего величия» мысли, о которых идет речь в этом первостепенной важности отрывке из летописи творчества Гоголя. Они, несомненно, охватывают всю совокупность его душевной жизни в эпоху профессорствования, которая вместе с тем есть эпоха упорной; боты над окончательной отделкой «Ревизора». Отчасти, конечно, слова Гоголя относятся к специальному кругу взглядов его на историческую жизнь. Но несомненно, что тут и пророческое предвидение того значения, которое предстояло получить окончательно «исторгнувшемуся» теперь из творческих недр «Ревизору». «Божественные минуты», видимо, с одной стороны относятся к уяснению для Гоголя судеб человечества. Но вместе с тем, тут ярко и проникновенно сказалась память о тех волшебных посещениях гения, когда умственному взору Гоголя представилось во всей его силе значение великой комедии. А «новое пробуждение», может быть, относится к- дальнейшему развитию зачатых уже тогда «Мертвых душ».
Но определенность в данном случае не имеет решительно никакого значения. Совсем не важны точные очертания тех мыслей, дум * и чувств, которые волнуют писателя, важно только, чтобы он горел и волновался и чтобы это волнение направляло его душевную жизнь в одну определенную сторону. Душа писателя-творца есть горнило, в котором в моменты рождения великих произведений плавится благородный металл таланта и горит святой огонь вдохновения. Только наличность и порода плавящегося металла и имеет значение, а уже ту или другую вполне определенную форму драгоценная масса непременно примет. И сейчас приведенный рассказ Гоголя о том, что происходило в его душе в годы создания «Ревизора», прежде всего важен тем, что от него пышет страшным внутренним огнем, что нас обдает тем жаром, в пылу которого выкована великая комедия. А затем мы ясно видим, что раздувало и поддерживало в душе Гоголя творческий огонь. Не. беззаботный смех, не зубоскальство, не желание забавить, а мысли «ужасающего величия» создали «веселую» комедию. То единственно-честное лицо среди плутов и пошляков «Ревизора», которое Гоголь впоследствии вводил в объяснение своей комедии – авторское отношение – не фраза, значит, потом придуманная. Пред нами реальный факт, «волнение» самого высокого свойства наполняло душу автора в течение всех двух лет, которых потребовало создание «Ревизора».







