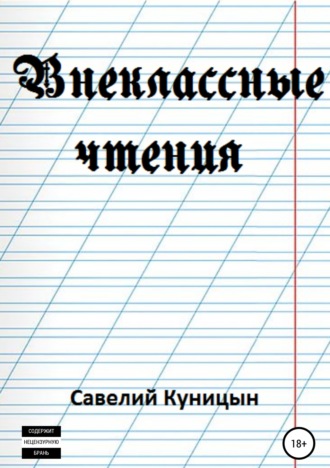
Савелий Куницын
Внеклассные чтения
Этот голос с холодною властностью говорит: не сдано сочинение и два диктанта…
Ты не слышишь, как ребята у соседнего окна тоже замолкают. Они смотрят на тебя и Нину Васильевну.
Она говорит: положение критическое. Вам нужно срочно что-то предпринимать для его исправления.
Ты не слышишь, как птицы на улице прекращают петь, и близится гроза.
Властный голос говорит: сегодня после окончания уроков второй смены я жду Вас в своём кабинете, будем разговаривать.
Твой потупленный взгляд не может выразить всего отчаяния, что овладевает тобой. Ты готов умереть прямо сейчас или опять рухнуть в обморок, но ни того, ни другого не выходит.
Нина Васильевна холодно смотрит через линзы очков на окно за твоей спиной и говорит: и даже не пытайтесь не прийти…
И она уходит. Просто поворачивается и идёт вдаль по коридору вместе с другими учителями и учениками.
– Вот у неё и жопа, – восхищённо произносит кто-то из парней, чьи разговоры ты ежедневно старательно слушаешь в школьном коридоре.
А ты стоишь у окна рядом с притихшим Гришей Соловьём и вид у тебя такой, будто только что огласили твой смертный приговор. Смотришь в гранитный пол и понимаешь, что сегодня тебе опять придётся ехать к Нине Васильевне домой.
Читать Байрона.
Опять.
И вид обслюнявленного члена не идёт из твоей головы…
– Вот ты и встрял, Стебунов, – громко говорит тебе Саня Иванов – невысокий светловолосый пацан мажористого вида. Он довольно ухмыляется и добавляет: – Но жопа у неё и, правда, классная…
– Да она ненормальная какая-то, – спокойно замечает Коля Смиренко. – У неё с головой какие-то проблемы.
И парни у соседнего окна опять заводят беседу на какую-то около сексуальную тему.
Отмолчавшись и протерев свои очки, Гриша Соловей смотрит на тебя и продолжает прерванное повествование:
– Я рассчитал, что за одну минуту 60-тиваттная лампочка в туалете расходует…
* * *
В тот знаменательный вечер, когда ты оказываешься у Нины Васильевны второй раз, она опять усаживает тебя за стол. Вы опять пьёте чай. Как и в первый раз.
Впоследствии это входит в своеобразную традицию – пить у неё чай.
И, кстати, эта мелочь – распитие у неё на кухне, – как и та металлическая авторучка тогда в лесу, сыграет свою немаловажную роль во всей этой истории.
В общем, в тот вечер, когда ты второй раз оказываешься у Нины Васильевны, вы опять пьёте чай.
Опять молча, как и в первый раз. Вы и в автобусе до нужной остановки едете молча.
Она молчит, холодными стеклянными глазами смотрит куда-то в сторону. Ты молчишь, твои глаза под засаленной чёлкой боязливо уставились в грязный пол автобуса. И сердце бьётся всё медленнее.
Нина Васильевна идёт от остановки до своего подъезда, ты молча плетёшься рядом.
Пока Нина Васильевна поднимается на свой этаж, ты молча плетёшься рядом.
Она открывает обитую старым дерматином дверь, ты молча стоишь рядом.
Входит в квартиру, ты молча заходишь за ней.
И всё это время ты смотришь исключительно себе под ноги.
Со стороны, наверное, это выглядит несколько забавно – затюканный пацан и женщина примерно тридцати лет, идущие рядом.
Она – словно тюремщица, ведущая узника в кандалах, и он – словно узник в кандалах, плетущийся за тюремщицей.
И ты действительно ведь идёшь, словно в кандалах.
Ни убежать, ни позвать кого-то на помощь у тебя даже не возникает мысли.
Совсем не возникает.
Даже отдалённого эха нет.
Наверное, это самая что ни на есть рабская психология. Психология жертвы.
Ты лишь вяло плетёшься и обречённо смотришь себе под ноги.
Как загипнотизированный удавом кролик.
Только в прихожей Нина Васильевна произносит первую фразу. Она снимает с себя пальто и говорит:
– Проходите на кухню.
И ты разуваешься и проходишь.
Когда вы допиваете чай, возникает неловкая пауза. Хотя… Вы и так оба всё время молчите, как ещё может быть пауза.
Нина Васильевна сидит за столом, её руки лежат поверх крест-накрест, а взгляд направлен в опустевший стакан.
Ты тоже смотришь на свой опустошённый стакан. Руки опущены под стол промеж ног.
Эта мизансцена длится около минуты.
Она смотрит в свой стакан, ты – в свой.
Потом Нина Васильевна внезапно поднимается со стула и подходит к холодильнику.
Спина её очень ровна. Она всегда так держится – статно. Плечи расправлены, подбородок приподнят, и ни малейшей сутулости.
С открытой дверцы холодильника она извлекает бутылку водки.
Именно водки.
Не коньяк и не вино хранится в закромах у преподавательницы литературы с патологической манерностью аристократки, а именно водка.
Причём бутыль уже початая. Но отпито лишь самую малость.
Нина Васильевна возвращается за стол, неумело своими тонкими пальцами откручивает крышку и наливает водки на несколько глотков прямо в стакан с остатками чая.
Когда вся эта картина попадает в поле твоего периферического зрения сквозь прямые пряди чёлки, ты не можешь сдержаться и поднимаешь взгляд.
В тот момент ваши глаза встречаются. Впервые за долгий промежуток времени.
Каких-то полторы секунды вы смотрите друг на друга. Ты – на неё, она – на тебя.
И ты слишком напуган в тот момент, чтобы прочесть испуг и в её глазах.
Нина Васильевна опять отводит взгляд в сторону, куда-то в стену, поднимает со стола стакан и, давясь, в несколько глотков опрокидывает водку в себя.
Тогда ты первый и последний раз видел, как человек морщится не всем лицом, а одними лишь глазами.
Нина Васильевна на мгновение замирает, будто позволяет мурашкам пробежать по телу, потом ставит стакан на стол и произносит, по-прежнему глядя мимо тебя:
– Пойдёмте в комнату…
Она поднимается со стула и выходит из кухни.
Ты ещё несколько секунд сидишь за столом. Твои глаза расширены. Страх ещё сильнее охватывает твою маленькую душу.
В мозгу пульсирует лишь подзабытый стих Байрона, обслюнявленный член и материнский наказ многолетней давности о том, что всё, что связано с пипиской – плохо…
5
Ходить к Нине Васильевне ты начинаешь каждый вечер. Нет, ты ходишь туда не добровольно. Просто она каждый раз говорит тебе "После окончания уроков второй смены ждите меня у школы". Или "Во столько-то вечера ждите меня сразу у моего подъезда"… И ты каждый раз выполняешь её указания.
У тебя даже не возникает мысли не повиноваться. Всё строго по приказу.
И так продолжается первые две недели: заканчиваются уроки твоей смены, ты идёшь домой, ешь, успеваешь вздремнуть часок или два, а затем снова идёшь к школе.
У Нины Васильевны ты проводишь около трёх часов, а то и четырёх, почти каждый день, кроме выходных.
Твои родители свыкаются с мыслью, что их серый отпрыск нашёл себе хоть каких-то друзей, с которыми может проводить вечера вне дома.
А ты же, в свою очередь, осваиваешь территории, доселе тебе неизвестные.
В первый же вечер, когда ты лежишь распластанный на единственной кровати в доме, а Нина Васильевна ползает в районе твоего живота, ты узнаёшь много нового.
Например, тогда ты впервые видишь эту большую таблетку.
Наподобие аскорбиновой кислоты, только больше раза в четыре.
В такой же бумажной упаковке, только одна таблетка размещается над другой, в итоге образуя ленту.
На упаковке над каждой из этих гигантских аскорбинок написано:
Завод РИ г. Армавир ПРЕЗЕРВАТИВРЕЗИНОВЫЙ Гост 4645-81 Тип А Номер 1 Цена 2 к март 83
Только когда Нина Васильевна надрывает упаковку и достаёт из этой ленты одну такую аскорбинку, ты понимаешь, что это такое. Когда она пальцами раскручивает резиновое колечко в некое подобие ещё не надутого воздушного шарика, ты понимаешь, что это такое на самом деле… Вернее, не то, что бы понимаешь, но примерно начинаешь догадываться.
Если бы не Нина Васильевна, то ты не знал бы многого…
Например, тогда же ты впервые узнаёшь и то, что значил тот невинный стишок из твоего глубокого детства.
Тот самый:
Ложись на поле боя, Звони в колокола И суй свою морковку В пещеру Арара…
Ты понимаешь, о чём щебетали дети в твоём дворе лет десять назад. Ты понимаешь, что такое, эта загадочная пещера Арара…
И всё спасибо Нине Васильевне, твоей учительнице литературы.
Огромное спасибо.
В тот первый вечер ты лежишь на спине без штанов с раздвинутыми ногами и широкими от шока глазами смотришь в потолок с пожелтевшей известью.
Твой пересохший от волнения мальчишеский рот хватает застоявшийся воздух комнаты.
В целом вид у тебя такой, будто ты сидел на унитазе, читал газету, и вдруг в сортир врывается грабитель в маске и принимается размахивать у твоего лица ножом.
Ты не знаешь, что там делает эта странная Нина Васильевна, внизу твоего живота. Но примерно догадываешься.
Вспомни обслюнявленный член.
Мозг конвульсивно и резко сокращается, как судорожная мышца, и адекватное мышление покидает тебя. Твоё сознание сейчас – это шоковое состояние.
Перегретый паровой котёл.
Программное обеспечение на компьютерах ядерной станции в момент критического перегруза.
Сигнал тревоги и красные огни то тут, то там. То тут, то там…
И механический женский голос в динамиках: персоналу станции срочно покинуть здание. Срочно покинуть здание…
Завывания тревоги и сигнальные красные огни всё громче, всё ярче, всё чаще…
Твоё сердце бьётся в бешеном ритме. Как барабанная дробь перед повешением государственных преступников.
Срочно покинуть здание… Срочно покинуть здание…
Твои глаза перестают видеть.
Напряжение всё нарастает.
Твой мозг кипит. Сознание бьётся в предсмертных конвульсиях.
Под общий гвалт и панику из тумана выплывает образ твоей толстой мамаши. Она грозит тебе своим пальцем-сарделькой: всё, что связано с пипиской – плохо…
Срочно покинуть здание… Плохо… …покинуть здание! Плохо! … здание!!! Плохо!!!Плохо!!! Плохо!!! Плохо!!! Плохо!!! Плохо!!!
Внезапно в твоём мозгу происходит какой-то взрыв. Реактор накрылся. И на горячей тугой волне тебя выносит из душного подвала станции на свежий воздух к яркому сияющему солнцу. Тёплый воздух окутывает всё твоё тело и плавно колышет на мягких волнах.
Плавно, как в ритме медленного вальса.
Тудааааааааааааааааааааа…
Сюдаааааааааааааааааааа…
Тудааааааааааааааааааааа…
Сюдаааааааааааааааааааа…
Амплитуда сердечных ударов идёт на убыль. Длина волны становится всё больше.
И на этих волнах ты словно выплываешь из небытия. Из временного забвения.
Твои широко раскрытые глаза расслабляются. Веки слегка смыкаются, и ты вновь видишь над собой потолок с пожелтевшей известью.
Ты вернулся. Твоё тело расслаблено.
Когда понимаешь, что всё это не сон, и Нина Васильевна на самом деле копошится внизу, поглаживая твой живот ладонями, твоё тело опять напрягается. Невольно.
Новая волна смущения охватывает тебя.
Ты опускаешь руки вниз, к причинному месту, прикрываешь всё, что может позволить площадь ладоней, и отворачиваешься в сторону.
Нина Васильевна лежит у твоих ног и гладит тебя по обнажённому юношескому бедру. По синей куриной ножке на прилавке магазина…
На ней самой – лишь юбка, чулки и бюстгальтер. Даже очки отложены в сторону.
Через непреодолимую стену юношеского смущения ты чувствуешь на себе взгляд её холодных глаз.
Обычно холодных, но не сейчас…
Ты слышишь её тихое сбитое дыхание.
Как после пробежки.
Ты ощущаешь правой ногой частое биение её сердце.
Как после финиша.
Нина Васильевна лежит у твоих ног, гладит тебя по обнажённому бедру и смотрит тебе в затылок. А ты, пятнадцатилетний салага, лежишь в позе эмбриона. Твои руки зажаты меж ног. Расширенные глаза пялятся на дверцу коричневого шифоньера в метре от кровати.
Твои ладони между ног… Под ними отчётливо ощущается что-то липкое…
– Стебунов, – произносит Нина Васильевна… Произносит почти шёпотом. Так тихо и медленно, словно боясь спугнуть какого-то маленького зверька.
И где-то на периферии сознания ты замечаешь, что её голос теряет былую властность. Он немного дрожит. Еле заметно.
Её рука нежно гладит тебя по бедру и слегка заползает на живот под твоими руками.
– Стебунов, – произносит Нина Васильевна, глядя тебе в затылок, – читайте Байрона…
* * *
После уроков идёшь домой. Ешь, что приготовила мать предыдущим вечером.
Холодные котлеты, застывшие в жиру чебуреки или гороховый суп с сухарями.
И потом ложишься спать. Около трёх часов дня.
По идее, тебе надо выполнять домашние задания к завтрашнему дню, но ты не можешь. Каждый божий день к окончанию последнего урока твоя голова начинает болеть. Причём, сильно.
То ли нехватка какого витамина, то ли минерала в твоём юношеском организме, но всего пять часов за школьной партой, и твоя голова раскалывается, как переспевший арбуз.
Твою головную боль можно определить даже по лицу: кожа под глазами у тебя темнеет, а иногда настолько, что это можно принять за синяк. Мать уже научилась по этому признаку определять твоё самочувствие – видит ввалившиеся глаза с потемневшими мешками и сразу спрашивает про голову.
И так каждый день.
Приходишь домой, ешь, выпиваешь уже привычную дозу аспирина и заваливаешься спать. После сна хотя бы в час, а лучше, два, боль, как правило, улетучивается.
Просыпаешься. На часах уже почти пять вечера. Примерно через полчаса с работы придёт отец – токарь на Уральском Заводе Тяжёлого Машиностроения.
Серый, как его дюраль.
Но только без благородного отблеска свежей шлифовки. Просто серый.
Худенький, щупленький, как цыплёнок табака. Максимум, о чём он может говорить дома, это его работа. Вернее, его рабочий коллектив.
Тот опять без спроса взял у него сигарету. Тот попросил принести тяжёлую деталь и не сказал спасибо…
Он вечно плачется, твой отец.
Иногда бывает, ты смотришь на него, и тебе отчётливо видится, как его били в поселковой школе. Били много. Без продыха.
Топтали его очки в пыли и плевали на темечко. А он лишь стоял на коленях и со слезами на глазах размазывал сопли по раскрасневшемуся лицу.
Чтобы не быть застигнутым врасплох расспросами отца, быстро встаёшь, умываешь лицо под краном, обуваешься и выходишь из дома. Сейчас тебе опять надо идти к школе. А потом за Ниной Васильевной опять плестись до её дома, где…
К себе домой ты вернёшься только часа через четыре или даже пять. Войдёшь, ответишь на вопрос матери "Где был?" – «Гулял» и почти сразу снова завалишься спать, ощущая себя уставшим и униженным. Оскорблённым и оплёванным.
И после первого такого раза твоя жизнь понеслась примерно по следующему сценарию:
Утром в школу. После уроков – быстро домой.
Ешь: бутерброды и сладкий чай.
Спишь два часа. Возвращаешься к школе, встречаешь Нину Васильевну…
Она надувает одну из тех резинок, которые ты поначалу принял за большие аскорбинки. Проверяет их на герметичность… Так каждый раз. В те времена производству доверять не приходилось. Пахнет резиной.
Поздно вечером приходишь домой. Ложишься спать…
Утром в школу. После уроков – быстро домой.
Ешь: вчерашний борщ и сладкий чай.
Спишь полтора часа. Возвращаешься к школе…
Одна «аскорбинка» пропускает воздух. Нина Васильевна достаёт вторую и надувает…
Пахнет резиной.
Поздно вечером приходишь домой. Ложишься спать…
Утром в школу и так далее…
Ты не ходишь в секцию самбо.
Ты не ходишь к репетитору по алгебре.
Ты не берёшь частных уроков игры на скрипке.
Но всё-таки распорядок твоего дня можно назвать сумасшедшим.
Для флегматичного девятиклассника он именно сумасшедший. Иначе не скажешь.
Уж лучше бы ты отрабатывал бросок через бедро. Уж лучше бы ты зубрил формулы. Уж лучше бы ты разучивал какое-нибудь малое арпеджио.
А так ты просто ежедневно ходишь туда, где тебя насилуют. Просто и незамысловато.
Ты ходишь к Нине Васильевне так часто, что она даже даёт тебе ключи от своей квартиры. Она иногда не всегда успевает вовремя и говорит тебе, чтобы ты сразу шёл к ней домой и был там во столько-то.
Приходишь к ней домой и в одиночестве бродишь по квартире и неуверенно её осматриваешь. Ты настолько робок, что даже не осмеливаешься заглянуть в трельяж. Ты не осмеливаешься рыться в её платяном шкафу. Любой другой подросток на твоём месте уже давно бы всё исшарил. Но только не ты.
Ты просто ходишь по квартире и осматриваешь всё, что лежит снаружи. Всякая ерунда. Для пятнадцатилетнего подростка именно ерунда.
Бродишь по квартире, а потом приходит Нина Васильевна. И тогда всё продолжается по прежнему сценарию…
Очередная резиновая «аскорбинка» пропускает воздух. Вместо неё надувается другая…
Пахнет резиной.
Поздно вечером приходишь домой. Ложишься спать…
Утром в школу. После уроков – быстро домой.
Ешь: гороховый суп с сухарями. Чай кончился. Чая нет.
Спишь два часа. Возвращаешься к школе, встречаешь Нину Васильевну…
Она проверяет очередную «аскорбинку» на герметичность. Пахнет резиной.
Ты так и не понимал тогда, для чего точно нужны презервативы. Полагал лишь, чтобы не мараться…
Поздно вечером приходишь домой. Ложишься спать…
Утром в школу и так далее…
Иногда тебе запоминаются некоторые перемены, когда Коля Смиренко у окна опять спокойно рассказывает что-нибудь интересное.
У соседнего окна в коридоре он говорит твоим одноклассникам: буква «Э» в русском языке обязана своим появлением в том числе и одному матерному слову. Слову «ебать». Раньше оно звучал как «ети». Отсюда и известное всем выражение "Ети твою мать". Просто сейчас немногие знают, что это то же самое, что и современная фраза "Ёб твою мать".
Он говорит: это было сделано ещё при Петре Первом. Для улучшения европеизации в русский язык ввели букву «Э», чтобы лучше передавать звуки иностранной речи. И при этом же заодно изменили и написание, и произношение местоимений «эти», "этот", «эта», "этим"…
Коля говорит: раньше все они писались через букву «Е» и произносились так же. А поменяли написание этих местоимений с той целью, чтобы при прочтении избежать самой возможности того, что местоимение «ети» было бы произнесено неверно, с ударением на букву «И». Тогда бы получился глагол «ети», то есть «ебать». Именно поэтому в местоимении и поменяли букву «Е» на «Э», чтобы не возникало путаницы.
Он говорит: косвенно в этом можно убедиться, заглянув в любой словарь – там все слова с буквой «Э» имеют иностранное происхождение, за исключением местоимений «это», "этот", «эти» и остальные из этого ряда, включая и нескольких междометий типа «эх», "эге!" и "эй".
Порой эти монологи Коли Смиренко, это самое занимательное, что ты узнаёшь за весь учебный день.
А после уроков снова быстро домой.
Снова ешь: бутерброды с колбасой. Чай кончился. Чая нет.
Спишь два часа. Возвращаешься к школе, встречаешь Нину Васильевну…
Надуваешь презервативы уже сам.
Поздно вечером приходишь домой. Ложишься спать…
И вся эта чехарда продолжается не одну неделю.
И, естественно, всё это начинает сказываться на твоей успеваемости в школе. Ты систематически не выполняешь домашние задания.
Только один ты знаешь, почему. Но сказать этого учителям ты просто не можешь.
Твой дневник начинает пестрить записями "Нет д/з", "Нет д/з","Нет д/з".
И везде «2», "2", "2"…
Через две недели появляются и первые записи а-ля "Уважаемые родители, обратите внимание на успеваемость Вашего сына".
Это пишет твоя классная руководительница – старая картавая учительница физики.
Та самая, которая на одном из уроков берёт в руки эбонитовую палочку и принимается натирать её шерстяной тряпочкой. Держит палочку в левой руке, сжатой в кулак, обхватывает её той рукой, в которой зажат шерстяной лоскут, и начинает водить туда-сюда.
Туда-сюда…
Снизу-вверх. Снизу-вверх.
Это она так пытается наглядно продемонстрировать действие статического электричества.
Туда-сюда…
Она водит зажатым в кулак шерстяным куском по эбонитовой палочке. Водит всё быстрее.
Вниз вверх…
Наивная старушка…
Она усердно натирает свою палочку и понять не может, почему её класс ухохатывается.
Если сначала были отдельные смешки где-то на задних партах, то спустя полминуты интенсивного трения со смехом еле борются и все остальные.
Вниз вверх. Вниз вверх…
Старушка трёт свою эбонитовую палочку.
Туда-сюда…
Она трёт, а сама смотрит на класс и не может понять, почему все то и дело прыскают со смеху.
Невольно, но она тоже начинает улыбаться, ваша старая учительница физики. Родилась не в то время.
Видимо, она полагает, что натирание палочки просто выглядит забавно, потому все и смеются. Забавно, но не более того.
Она стоит, трёт эбонитовую палочку куском шерстяной материи и растерянно улыбается своему классу в ответ.
Ты смотришь на всю эту картину и в один миг осознаёшь всю свою серость.
Как озарение. В один миг.
На месте этой старушки запросто мог оказаться ты сам. Стоял бы, тёр эбонитовую палочку куском шерсти, глупо озирался по сторонам, а весь класс ржал бы над тобой. Коля Смиренко показывал бы на тебя пальцем и говорил своим друзьям: "throttle the one eye snake"…
И в этот самый момент ты с такой ясностью осознаёшь всю свою серость, что твоё настроение падает в такие низы, откуда вынуть его сможет только чудо.
Ты и ваша старушка-физичка… Ваша классная руководительница, которая уже несколько дней безуспешно испещряет твой дневник красными надписями, призывая твоих родителей придти в школу…
Вы, как две капли воды, похожи друг на друга. Одного поля ягоды.
Она родилась слишком рано, ты – родился слишком не в той семье…
Ваши представления о мире так безнадёжно устарели и изобилуют столь огромными пробелами, что совсем уже не отражают действительности.
Вы, как два яблока, упавшие с обоза и теперь валяющиеся в дорожной пыли.
Ваша старушка-физичка дрочит перед всем классом эбонитовую палочку и не понимает, почему все кругом смеются.
Пока все кругом пошло ухохатываются, ты смотришь на одну из парт у окон. На Машу Брауберг. И ты видишь, что она тоже смеётся. Над этим чёртовым представлением она ухохатывается вместе со всем остальным классом.
Ты смотришь на неё, и что-то обрывается у тебя внутри. Её лучезарная улыбка и искренний смех… Они всё испортили.
Она не должна была смеяться в этот момент. Ни в коем случае не должна была.
Эта четырнадцатилетняя девочка не должны была знать, что такое «дрочить». Но она знает. Искренний смех выдаёт её.
Он выдаёт весь класс. Всю эту свору четырнадцати и пятнадцатилетних салаг.
Один лишь ты, наверное, узнал, что значит это слово на практике всего месяц назад. Благодаря Нине Васильевне Силантьевой, твоей учительницы литературы и русского языка.
Смотришь на смеющуюся Машу Брауберг и ощущаешь сильное разочарование. Ты чувствуешь себя обманутым. Твои ожидания не оправдались.
Опять смотришь в сторону доски: старушка всё ещё трёт свою палочку чуть ли не под общий гвалт аплодисментов.
Но вот оплёванным ты ощущаешь почему-то именно себя.
После урока классная руководительница подзывает тебя и спрашивает, почему родители не спешат в школу? Ты врёшь, что они пока не могут. Врёшь, что они пока очень заняты.
Ты добавляешь, что на следующей неделе все свои оценки исправишь.
Ты говоришь это, а сам уже примерно представляешь, как будешь осуществлять план повышения собственной успеваемости.
Этот план созрел, когда ты в очередной раз залезаешь в кухонный шкаф в поисках аспирина. Роешься в ворохе всяких – амов, – инов и – онов, и тут возникает этот план.
План сложный, но возможный.




