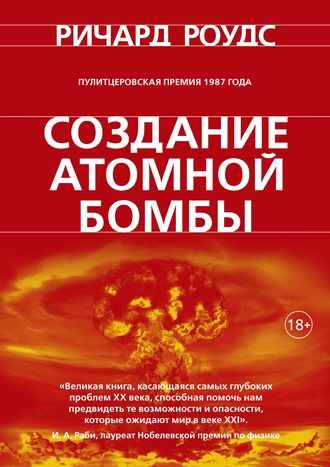
Ричард Роудс
Создание атомной бомбы
Еще на первом курсе магистратуры, в 1922 году, Лоуренс начал обдумывать возможности достижения высоких энергий. В этом его по-отечески поддерживал его пылкий наставник. Уильям Фрэнсис Грей Суонн, англичанин, попавший в Миннесоту после работы в отделе земного магнетизма частного Института Карнеги в округе Колумбия, затем перешел по мере развития своей научной карьеры в Чикаго, а потом и в Йель, и Лоуренс всюду сопровождал его. После того как Лоуренс получил докторскую степень и приобрел многообещающую репутацию, Суонн убедил Йельский университет позволить ему не тратить традиционные четыре года на работу младшим преподавателем и сразу занять должность доцента физического факультета. В 1926 году Суонн ушел из Йеля, и это стало одной из причин того, что Лоуренс решил перебраться на запад. Кроме того, в Беркли ему обещали должность адъюнкт-профессора, хорошую лабораторию, сколько угодно аспирантов и 3300 долларов в год зарплаты, а Йель ничего подобного не предлагал.
В Беркли, как говорил впоследствии Лоуренс, «как мне казалось, было самое время уточнить мои исследовательские планы, понять, нельзя ли с пользой заняться ядерными исследованиями, потому что передовые работы Резерфорда и его школы ясно показывали, что следующей областью великих свершений в физике явно будет атомное ядро»[631]. Но, как объясняет Луис Альварес, «утомительные методы, которые использовал Резерфорд… отпугивали самых перспективных ядерных физиков. Простые расчеты показывали, что один микроампер ускоренных при помощи электричества легких ядер будет ценнее, чем все мировые запасы радия, – если только ядерным частицам удастся придать энергию порядка миллиона электрон-вольт»[632].
Альфа-частицы или, еще лучше, протоны можно ускорять, если производить их в разрядной трубке, а затем применять к ним электрическое притяжение или отталкивание. Но никто не знал, как сконцентрировать в одном месте на достаточное с практической точки зрения время напряжение в миллионы вольт, по-видимому необходимое для преодоления электрического барьера более тяжелых ядер, без электрических пробоев, которые могут быть вызваны искрами или перегревом. Эта проблема была, по сути дела, проблемой механической, экспериментальной. Неудивительно, что ею заинтересовалось молодое поколение американских физиков-экспериментаторов, выросших в мелких городках и на сельских фермах и с самого детства увлекавшихся радиотехникой. К 1925 году Мерл Тьюв, друг детства и одноклассник Лоуренса по школе в Миннесоте, также пользовавшийся покровительством У. Ф. Г. Суонна, а теперь работавший в Институте Карнеги вместе с тремя другими физиками, сумел добиться кратковременного, но впечатляющего ускорения частиц при помощи высоковольтного трансформатора, погруженного в масло. Разрабатывали новое оборудование и другие, в том числе Роберт Дж. Ван де Грааф в МТИ и Чарльз К. Лауритсен в Калтехе.
Лоуренс занимался более перспективными исследованиями, но не забывал и о задаче получения высоких энергий. Главная идея пришла ему в голову весной 1929 года, за четыре месяца до приезда Оппенгеймера. «В начале своей работы в Беркли, когда он еще был холостяком, – пишет Альварес, – Лоуренс часто проводил вечера в библиотеке, читая все подряд… Хотя в аспирантуре он еле-еле сдал французский и немецкий на требовавшемся уровне и, следовательно, почти не знал ни того ни другого языка, он прилежно, вечер за вечером, перелистывал старые выпуски иностранных изданий»[633]. Такой силой обладало упорство Лоуренса. И оно принесло свои плоды. Просматривая посвященный электротехнике немецкий журнал Archiv für Elektrotechnik, который редко читали физики, он наткнулся на сообщение норвежского инженера Рольфа Видероэ под названием «О новом принципе выработки повышенных напряжений» (Über ein neues Prinzip zur Herstellung höher Spannungen). Этот заголовок привлек его внимание. Он стал изучать прилагавшиеся к статье фотографии и чертежи. Они казались достаточно ясными, чтобы дать Лоуренсу представление о содержании статьи, и он не стал возиться с расшифровкой ее текста.
Видероэ нашел хитроумное решение задачи высокого напряжения, развив принцип, открытый одним шведским физиком в 1924 году. Он установил друг за другом два металлических цилиндра и откачал из них воздух. Источник питания подавал 25 000 вольт переменного напряжения высокой частоты, быстро меняющего полярность с положительной на отрицательную и наоборот. Таким образом, это напряжение можно было использовать как для отталкивания, так и для притяжения положительно заряженных ионов. Если подать на первый цилиндр отрицательное напряжение в 25 000 вольт и ввести с одного его конца положительные ионы, то на выходе из первого цилиндра во второй они будут ускорены до 25 000 вольт. В этот момент нужно изменить полярность, подать на первый цилиндр положительное напряжение, а на второй – отрицательное, и ионы ускорятся еще больше под действием отталкивания и притяжения. Если добавить еще цилиндров, делая их с каждым разом все большей длины с учетом увеличивающейся скорости ионов, то теоретически можно получать все большее ускорение до тех пор, пока ионы не рассеются слишком далеко от центра и не начнут соударяться со стенками цилиндра. Важное новшество решения Видероэ состояло в том, что оно позволяло получить увеличение ускорения с использованием сравнительно малого напряжения. «Эта новая идея, – говорит Лоуренс, – сразу показалась мне именно тем реальным решением технической задачи ускорения положительных ионов, которого я искал. Я не стал читать статью дальше и рассчитал предположительные параметры линейного ускорителя протонов, позволяющего разгонять их до энергий свыше миллиона [вольт]»[634].
В первый момент результаты расчетов Лоуренса показались ему обескураживающими. Выходило, что труба ускорителя должна быть «несколько метров длиной», то есть, по его мнению, слишком длинной для лаборатории (современные линейные ускорители достигают в длину 3,2 км)[635]. «Соответственно, я задумался, нельзя ли вместо того, чтобы использовать большое число цилиндрических электродов, выстроенных в одну линию, многократно использовать всего два электрода, проводя положительные ионы вперед и назад через эти электроды при помощи магнитного поля подходящей конфигурации»[636]. Конфигурация, о которой он подумал, была спиральной. «Он почти моментально осознал, – писал впоследствии Альварес, – что линейный ускоритель можно “свернуть” в ускоритель спиральный, если поместить его в магнитное поле»[637], потому что силовые линии такого поля будут направлять ионы по нужной траектории. При наличии подаваемых в точно рассчитанные моменты толчков ионы будут лететь по спирали, причем спираль эта будет становиться все шире по мере ускорения частиц, причем удерживать их на нужной траектории будет все труднее. Затем, выполнив простой расчет результатов применения магнитного поля, Лоуренс обнаружил, что спиральный ускоритель обладает еще одним неожиданным достоинством: более медленные частицы совершают в магнитном поле оборот по траектории меньшего радиуса в точности за то же время, за которое частицы более быстрые совершают оборот по своей более длинной траектории. Это означало, что все эти частицы выгодно разгонять вместе, одними и теми же чередующимися толчками.
Лоуренс пришел в восторг и поспешил рассказать о своем открытии всем на свете. В преподавательском клубе он нашел еще не спавшего астронома и привлек его к проверке своих вычислений. На следующий день он поразил одного из своих дипломников, завалив его расчетами спирального ускорения, но не проявив никакого интереса к эксперименту по теме его работы. «Ах, это, – ответил Лоуренс на вопрос студента. – Ну, по этому вопросу вы уже знаете не меньше моего. Продолжайте самостоятельно»[638]. Следующим вечером жена одного из преподавателей, проходя по кампусу, была напугана внезапным воплем пробегавшего мимо молодого экспериментатора: «Я буду знаменитым!»[639]
После этого Лоуренс поехал на восток, на съезд Американского физического общества, и обнаружил там, что лишь немногие из его коллег разделяли его точку зрения. Механикам, не обладавшим его энтузиазмом, казалась неустранимой проблема рассеяния. Мерл Тьюв воспринял его идею скептически. Джесси Бимс, коллега по Йелю и близкий друг Лоуренса, считал, что идея прекрасна, если только ее удастся осуществить. Лоуренс пользовался репутацией человека энергичного, но – то ли потому, что никто его не поддержал, то ли потому, что сама идея казалась ему верной и надежной, но в том, каким получится ее материальное воплощение на лабораторном стенде, он не был уверен, – изготовление своего спирального ускорителя он постоянно откладывал. Он был не первым человеком, замершим в нерешительности на самом пороге будущей славы.
Оппенгеймер приехал на помятом сером «крайслере»[640] летом 1929 года, после очередного отпуска, проведенного с Фрэнком на ранчо в Сангре-де-Кристо. Ранчо называлось теперь Перро-Кальенте («Горячая Собака»), от дословного испанского перевода восклицания «Hot dog!»[641], которое вырвалось у Оппенгеймера, когда он узнал, что этот участок сдается. Оппенгеймер нашел в Лоуренсе «невероятную энергию и жизнелюбие». «Весь день работает, потом убегает на теннис, потом работает еще полночи. Его заинтересованность была такой первобытно живой [и] плодотворной, а моя – в точности противоположной»[642]. Они вместе ездили верхом, причем у Лоуренса были жокейские рейтузы и английское седло – на американском-то Западе! – как считал Оппенгеймер, чтобы подчеркнуть отчуждение от фермы. Когда Лоуренсу удавалось вырваться с работы, они отправлялись на его REO в долгие поездки в Йосемити или в Долину Смерти.
Необходимый импульс придал Лоуренсу Отто Штерн, именитый экспериментатор из Гамбургского университета, защитивший диссертацию в Бреслау, которому был тогда сорок один год; в будущем его ждала Нобелевская премия (хотя в этом отношении Лоуренс его опередил). Как-то после рождественских праздников они ужинали в ресторане в Сан-Франциско, в который можно было попасть после приятной поездки на пароме через еще не перекрытый мостом залив[643]. Когда Лоуренс в очередной раз рассказал свою уже привычную историю о частицах, раскручивающихся до неограниченно высоких энергий в удерживающем их магнитном поле, Штерн, вместо того чтобы вежливо откашляться и сменить тему – как это бывало со многими другими коллегами, – загорелся, на свой германский манер, таким же энтузиазмом, какой испытывал вначале сам Лоуренс. Он велел Лоуренсу немедленно уйти из ресторана и взяться за дело. Лоуренс все же дождался утра, поймал одного из своих аспирантов и вытянул из него обещание принять участие в этом проекте, как только тот закончит подготовку к аспирантским экзаменам.
Получившаяся установка выглядела в видах сверху и сбоку следующим образом:

Два цилиндра ускорителя Видероэ превратились в два латунных электрода в форме половинок разрезанной надвое цилиндрической банки. Они были полностью заключены внутрь вакуумной камеры, а вакуумная камера была установлена между двумя круглыми, плоскими полюсами большого электромагнита.
В пространстве между двумя электродами (которые стали называть дуантами, а по-английски – dees, то есть «буквами D», которые они напоминали формой), в центральной точке находятся раскаленная нить и патрубок для вывода газообразного водорода, который производят протоны, направляемые в магнитное поле. Два дуанта, на которые поочередно подают напряжение разных знаков, отталкивают и притягивают протоны, летящие по окружности. После прохождения частицами приблизительно сотни ускоряющих витков спирали их пучок выводят, после чего его можно направить на мишень. 2 января 1931 года Лоуренс и его студент М. Стэнли Ливингстон получили в камере размером около 12 сантиметров с использованием напряжения менее 1000 вольт протоны, ускоренные до 80 000 вольт.
Проблема рассеяния разрешилась сама собою при низких ускорениях, когда Ливингстон решил убрать тонкую проволочную сетку, установленную в зазоре между дуантами, чтобы исключить возникновение ускоряющего электрического поля на внутреннюю область дрейфа. Внезапно оказалось, что между краями дуантов электрическое поле действует как линза, фокусируя летящие по спирали частицы и отклоняя их в направлении центральной плоскости. «При этом интенсивность стала в сотню раз выше, чем раньше»[644], – говорит Ливингстон. Этот эффект был слишком слабым, чтобы удерживать более высокоскоростные частицы. Тогда Ливингстон переключил свое внимание на магнитное удержание. Он предположил, что пучок частиц теряет фокусировку на высоких скоростях из-за недостаточно ровных поверхностей магнита, неоднородность которых, в свою очередь, порождает нарушения однородности магнитного поля. Под влиянием этой идеи он стал нарезать листы железной фольги на маленькие клинья, «очень похожие по форме на восклицательные знаки», как они с Лоуренсом писали потом в Physical Review, и, действуя методом проб и ошибок, вставлять эти клинья между поверхностью магнита и вакуумной камерой. Такая подстройка магнитного поля «увеличила коэффициент усиления… с приблизительно 75 до приблизительно 300»[645], – торжествующий курсив добавил Лоуренс. При одновременном использовании электрической и магнитной фокусировки двенадцатисантиметровая установка позволила в феврале 1932 года ускорить протоны до миллиона вольт. К этому времени у нее уже было прозвище, в 1936 году ставшее благодаря Лоуренсу и ее официальным названием, – циклотрон. Даже в сухом научном сообщении в Physical Review от 1 апреля 1932 года Лоуренс не мог сдержать своего восторга от возможностей новой машины:
Если предположить, что коэффициент усиления напряжения равен 500, получение 25 000 000-вольтовых протонов [!] потребует приложения к ускорителям напряжения в 50 000 вольт с длиной волны 14 метров, то есть по 25 000 вольт относительно земли к каждому из ускорителей. Это представляется вполне осуществимым на практике[646].
Магнит такого ускорителя должен был весить восемьдесят тонн, что делало его самой тяжелой из установок, использовавшихся до тех пор в физике. Лоуренс, ставший теперь профессором, уже собирал средства.
Когда Роберт Оппенгеймер старшекурсником был в Европе, он сказал одному своему другу[647], что мечтает основать в Соединенных Штатах великую школу теоретической физики – причем в Беркли, во второй после Нью-Мексико пустыне, которую он решил освоить. Эрнест Лоуренс, по-видимому, мечтал основать великую лабораторию. Оба они стремились к успеху и, каждый по-своему, к наградам, которые приносит успех, но по разным мотивам.
Юношеская претенциозность Оппенгеймера переросла по мере его взросления в Европе и в первое время в Беркли в утонченность, обычно приятную, но иногда все же чрезмерную. Оппенгеймер создал себе эту маску отчасти из отвращения к дурновкусию, вероятно происходившего из бунта против предприимчивости отца и не лишенного элементов ненависти к самому себе с антисемитским оттенком. Где-то в процессе он убедил себя в том, что честолюбие и мирской успех вульгарны; доходы от трастового фонда, составлявшие десять тысяч долларов в год, вполне позволяли ему поддерживать это убеждение. Это дезориентировало его собственные устремления. Позднее американский физик-экспериментатор И. А. Раби задумывался, почему «такие одаренные люди, как Оппенгеймер, не открывают всего того, что стоит открыть». В его ответе на этот вопрос упоминается одно из возможных препятствий:
Кажется, что Оппенгеймер был в некотором смысле чрезмерно образован в областях, выходящих за пределы научной традиции, – например, это касается его интереса к религии, в частности к религии индуистской, который создавал у него ощущение, что тайны Вселенной окружают его почти как туман. Глядя на уже достигнутое, он ясно видел физические аспекты мира, но ближе к границе непознанного он часто ощущал, что таинственного и неизвестного существует больше, чем его было на самом деле… Кто-то может назвать это недостатком веры, но, на мой взгляд, речь шла скорее об уходе от жестких, грубых методов теоретической физики в мистическое царство общей интуиции[648].
Но отвращение Оппенгеймера к тому, что казалось ему вульгарным, от тех «жестких, грубых методов», о которых говорит Раби, видимо, дезориентировало и в другом отношении, что имело более прямые негативные следствия. Его элегантная, по меньшей мере на взгляд стороннего наблюдателя, физика – в его научных статьях практически невозможно разобраться, не будучи математиком, и это не случайно – это, если уподобить ее игре в баскетбол, физика непрямых бросков. Он проводит мяч по краям и углам, играет по всей площадке, но избегает упорного натиска на кольцо. Образцами для подражания были для него два поразительно оригинальных математика[649], Вольфганг Паули и суровый, замкнутый кембриджский математик Поль А. М. Дирак, зять Юджина Вигнера. Оппенгеймер первым описал так называемый туннельный эффект[650], в результате которого частица, имеющая неопределенное положение, как бы перелетает существующий вокруг ядра электрический барьер на крыльях вероятности. С практической точки зрения можно считать, что сначала она существует, потом перестает существовать, а потом, в тот же момент, существует снова, но уже по другую сторону барьера. Однако уравнения для описания туннельного эффекта, которые использовали экспериментаторы, разработал Джордж Гамов, склонный к шутовству русский физик, читавший лекции в Кембридже. В конце 1930-х годов Ханс Бете впервые определил механизмы термоядерной реакции углеродного цикла, благодаря которой горят звезды, – эта работа принесла ему Нобелевскую премию. Оппенгеймер исследовал тонкости невидимых космических границ, моделировал катастрофическое сжатие умирающих звезд[651] и работал над описанием гипотетических звездных объектов – нейтронных звезд и черных дыр, – до открытия которых в реальности оставалось еще лет тридцать или сорок, потому что приборы, необходимые для их обнаружения, радиотелескопы и рентгеновские спутники, еще попросту не были изобретены. Альварес считает, что, если бы Оппенгеймер дожил до их появления, эта его работа тоже была бы удостоена Нобелевской премии. Речь шла об оригинальности, не столько опережающей свое время, сколько выходящей за общие рамки.
Эту психологическую и творческую путаницу отчасти можно почувствовать в кратком эссе о достоинствах дисциплины, которое Оппенгеймер включил в письмо своему брату Фрэнку, написанное в марте 1932 года, когда ему не было еще и двадцати восьми лет. Его стоит привести без сокращений; оно намекает на ту долговременную епитимью, которую он наложил сам на себя в надежде, что она очистит его душу от малейших пятен вульгарности:
Ты всерьез сомневаешься в благотворности дисциплины. То, что ты говоришь, правда: я действительно ценю ее – как, по-моему, и ты, – не только за ее практические плоды, умения. Мне кажется, этой оценке можно дать только метафизические обоснования, но метафизические учения, дающие ответ на твой вопрос, очень разнообразны, да и сами метафизики очень разнородны: Бхагават-гита, Экклезиаст, стоики, начало «Законов», Гуго Сен-Викторский, Фома Аквинский, Хуан де ла Крус, Спиноза. Такое огромное разнообразие говорит о том, что тот факт, что дисциплина благотворна для души, более фундаментальный, чем любые основания ее благотворности, которые можно привести. Я считаю, что именно через дисциплину – хотя и не через одну только дисциплину – мы можем достичь и ясности, и небольшой, но драгоценной свободы от случайностей перерождений, и милосердия, и той отрешенности, которая спасает тот самый мир, от которого она побуждает отстраниться. Я считаю, что именно через дисциплину мы можем научиться беречь то, что существенно для нашего счастья во все более и более неблагоприятных обстоятельствах, и попросту отказываться от того, что в ином случае казалось бы необходимым; что приходим, хотя бы в малой степени, к видению мира, свободному от чудовищных искажений личными желаниями, и благодаря такому видению легче смиряться с земными лишениями и ужасами. Но хотя я полагаю, что дисциплина приносит награду большую, чем достижение ее непосредственной цели, я не хочу, чтобы ты думал, что дисциплина может не иметь цели: по самой своей природе дисциплина предполагает подчинение души некой, возможно мелкой, задаче; и, если мы не хотим, чтобы дисциплина была надуманной, задача эта должна быть реальной. Поэтому я думаю, что мы должны воспринимать все, что требует дисциплины, – учебу и наши обязанности по отношению к людям и обществу, войну и личные невзгоды, даже нужду в средствах к существованию – с глубокой благодарностью, ибо только они позволяют нам достичь даже малейшей отрешенности, и только так мы можем обрести мир[652].
Лоуренс, на несколько порядков менее красноречивый, чем Оппенгеймер, также был человеком яростно целеустремленным, но к каким, спрашивается, целям он стремился? Показателен один абзац из его письма к брату Джону, написанного приблизительно в то же время, что и рассуждение Оппенгеймера: «Интересно было узнать, что у тебя период депрессии. У меня они бывают часто – иногда кажется, что все не так, – но я к ним уже привык. Я готов к приступам тоски и способен переживать их. Конечно, лучше всего их смягчает работа, но иногда в таком состоянии и работать трудно»[653]. То, что работа только «смягчает» депрессию, а не спасает от нее, показывает, какой глубокой бывала его тоска. Лоуренс переносил эти приступы – в некоторой степени маниакально-депрессивные – в тайне; он непрерывно двигался вперед, чтобы не упасть.
Во всех этих эмоциональных неурядицах – Оппенгеймера и Лоуренса, а также Бора и многих других, до и после, – наука становилась точкой опоры: открытия обеспечивали сохранение мира. Психологи, проводившие исследования, в которых испытуемыми были ученые из Беркли, с использованием тестов Роршаха и теста тематической апперцепции, обнаружили, что в основе творческих научных открытий лежала «необычайная восприимчивость к ощущениям – обычно ощущениям чувственным». «Повышенная чувствительность сопровождается в мышлении чрезмерным вниманием к сравнительно неважным или побочным аспектам задач. Это побуждает [ученых] изыскивать и постулировать значение в вещах, обычно невыделяемых. Это склоняет к мышлению высокоиндивидуализированного и даже аутического типа»[654]. Вспомним, как Резерфорд ухватился за в высшей степени невероятную интуитивную идею об обратном рассеянии альфа-частиц, как Гейзенберг вспомнил невнятное замечание Эйнштейна и пришел к выводу, что природа работает только в гармонии с математикой, как Лоуренс маниакально листал малопонятные иностранные журналы:
Если бы такое мышление не существовало в контексте научной работы, оно считалось бы параноидным. Творческое мышление в научной работе требует видения того, что не было увидено раньше, или способами, до этого не приходившими никому в голову; и это требует скачкообразного отхода от «нормальных» точек зрения и рискованного отдаления от реальности. Разница между мышлением параноидного пациента и мышлением ученого происходит из способности и желания последнего проверять свои фантазии или грандиозные концептуализации при помощи систем сдержек и противовесов, установленных наукой, – а также отказываться от схем, истинность которых не подтверждается такими научными проверками. Именно потому, что наука предлагает такую систему правил и законов, регулирующих и ограничивающих параноидное мышление, ученый может без опасений совершать эти параноидные скачки. Без такой структуры опасность подобного нереалистичного, нелогичного и даже фантастического мышления для общего состояния разума и организации личности была бы слишком велика, чтобы ученый мог позволить себе предаваться таким фантазиям[655].
На переднем крае науки, на пороге истинно нового, эта опасность часто бывала почти непреодолимой. Таково было потрясение Резерфорда, обнаружившего отражающиеся обратно альфа-частицы, «несомненно, самое невероятное из событий, произошедших со мной за всю мою жизнь». Такова была «глубокая встревоженность» Гейзенберга, открывшего квантовую механику, доведшая его до головокружения галлюцинация, в которой он заглянул сквозь «поверхность атомных явлений» в «до странного прекрасное нутро». Такова была и необычайно сильная реакция Эйнштейна в ноябре 1915 года, когда он осознал, что общая теория относительности, над разработкой которой он бился в своем одиноком кабинете, дает объяснение аномалий орбиты Меркурия, остававшихся для астрономов загадкой на протяжении более чем пятидесяти лет. Его биограф, физик-теоретик Абрахам Пайс, заключает: «Пожалуй, ни одно из событий в научной деятельности, да и в жизни, не потрясло Эйнштейна сильнее, чем это открытие. С ним говорила сама Природа. Он не мог ошибиться. “В течение нескольких дней я был вне себя от радости”. Позднее он признался Фоккеру, что это открытие вызвало у него учащенное сердцебиение. Еще примечательно то, что он сказал де Хаазу: когда он понял, что расчеты соответствуют необъяснимым ранее результатам астрономических наблюдений, ему показалось, что внутри у него что-то оборвалось…»[656][657]
Вознаграждение за такой эмоциональный риск может быть огромным. Именно в момент открытия – момент величайшей экзистенциальной неустойчивости – внешний мир, сама природа дают ученому глубокое подтверждение его самых сокровенных фантастических убеждений. Грубо привязанный к миру, как задыхающийся левиафан, пойманный на крюк, он находит спасение от глубокого умственного расстройства в самом глубинном подтверждении реальности.
Бору, особенно хорошо понимавшему этот механизм, хватило отваги обратить его действие и использовать его в качестве критерия истинности. Отто Фриш вспоминает разговор, в котором кто-то пытался сменить тему, сказав Бору, что от обсуждаемых вопросов у него кружится голова. Бор ответил на это: «Но, если кто-нибудь утверждает, что может думать о квантовых задачах без головокружения, это говорит только о том, что он ничего в них не понял»[658]. Гораздо позднее, рассказал как-то в своей лекции Оппенгеймер, Бор слушал Паули, говорившего о новой теории, за которую он незадолго до того подвергся критике. «И в конце разговора Бор спросил: “А достаточно ли она безумна? Вот квантовая механика была совершенно безумной”. Паули ответил: “Я надеюсь, что да, но, может быть, это и не вполне так”»[659]. Проявленное Бором понимание того, каким безумным должно быть открытие, объясняет, почему Оппенгеймер иногда оказывался не способен самостоятельно довести исследования до самых сокровенных глубин. Для этого требовалась та прочная – даже грубая – сердцевина личности, которая была у столь разных людей, как Нильс Бор и Эрнест Лоуренс, но Оппенгеймеру не посчастливилось ее иметь. По-видимому, он был предназначен для другой работы: пока что его делом стало построение той школы теоретической физики, о которой он мечтал.
3 июня 1920 года Эрнест Резерфорд читал в лондонском королевском обществе свою бейкеровскую лекцию[660][661]. Этой чести он удостоился уже во второй раз[662]. Он воспользовался этой возможностью для подведения итогов существовавшего на тот момент понимания «ядерной конституции» и обсуждения успешного преобразования атома азота, опубликованного годом раньше; такой возврат к прошлым результатам был обычным делом для подобных публичных церемоний. Но, кроме того, в его лекции была еще одна, нетрадиционная и провидческая, часть – рассуждения о возможности наличия третьего после электронов и протонов основного компонента атома. Он говорил, что «…предполагается возможность существования атома с массой 1 и нулевым зарядом ядра»[663]. Такая атомная конструкция, по его мнению, была вполне возможна. Речь должна была идти, как он предполагал, не о новой элементарной частице, а о сочетании частиц уже существующих, электрона и протона, прочно связанных вместе и образующих единую нейтральную частицу.
«Такой атом, – продолжал Резерфорд со своей обычной проницательностью, – обладал бы весьма своеобразными свойствами. Его внешнее поле было бы практически равно нулю повсюду, за исключением области, прилегающей непосредственно к ядру, благодаря чему он мог бы проходить свободно через вещество. Существование таких атомов, вероятно, трудно было бы обнаружить с помощью спектроскопа, и их невозможно было бы сохранять в герметически закрытом сосуде». Такими могут быть особенности этого атома. А вот какими он может обладать исключительно полезными свойствами: «С другой стороны, они должны легко проникать в недра атома и могут либо соединяться с ядром, либо распасться под действием интенсивного поля ядра…»[664] Если бы такие нейтральные частицы – нейтроны – существовали, они могли бы оказаться самым мощным из всех средств изучения атомного ядра.
Ассистент Резерфорда Джеймс Чедвик[665], присутствовавший на этой лекции, не со всем в ней был согласен. Чедвику было двадцать девять лет. Он учился в Манчестере и приехал оттуда в Кембридж вслед за Резерфордом. Он уже успел добиться многого – в молодости, как пишут двое из его коллег, его достижения «мало чем уступали достижениям Мозли»[666], – но всю Первую мировую войну он провел в немецком лагере для интернированных, который не только подорвал его здоровье, но и смертельно ему наскучил. Теперь он горел желанием заняться новой работой в ядерной физике. Получить нейтральную частицу было бы чудесно, но Чедвику казалось, что Резерфорд сделал вывод о ее существовании на довольно шаткой основе.
Той же зимой он убедился в своей ошибке. Резерфорд пригласил его участвовать в работе по применению результатов, полученных в экспериментах по превращениям азота, к более тяжелым элементам. Чедвик усовершенствовал методику подсчета сцинтилляций, разработав микроскоп большей светосилы и введя более строгую методику. Кроме того, он знал химию и помог устранить возможность загрязнения водородом – Резерфорд все еще беспокоился, что этот фактор может поставить под сомнение результаты, полученные на азоте. «Но, кроме того, я думаю, – говорил Чедвик много лет спустя в мемориальной лекции, – ему нужна была компания, чтобы кто-то разделял с ним скуку подсчетов в темноте – и слушал его энергичное исполнение гимна “Вперед, Христово воинство”»[667].
«До начала экспериментов, – рассказывал Чедвик в одном из интервью, – до начала наблюдений в этих экспериментах нам нужно было привыкнуть к темноте, чтобы наши глаза к ней приспособились, и у нас в комнате стоял большой ящик, в котором мы прятались, пока Кроу, личный помощник и лаборант Резерфорда, готовил установку. То есть он приносил из радиевой комнаты радиоактивный источник, устанавливал его в прибор, откачивал установку или заполнял ее, чем было нужно, устанавливал разные источники и вообще делал все, о чем мы до этого договорились. А мы сидели в темной комнате, в темном ящике, в течение получаса или около того и, естественно, разговаривали». Помимо всего прочего они разговаривали и о бейкеровской лекции Резерфорда. «И вот именно тогда я понял, что эти наблюдения, которые я считал совершенно ошибочными и которые потом и оказались ошибочными, на самом-то деле не имели никакого отношения к его предположению о существовании нейтронов. Он просто прицепил к ним это предположение. Потому что он уже довольно давно об этом думал».



