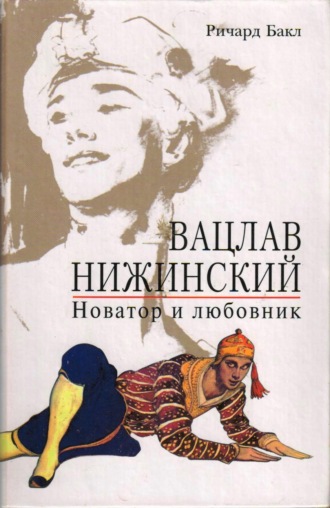
Ричард Бакл
Вацлав Нижинский. Новатор и любовник
Сам состав публики, приглашенной Астрюком и Дягилевым, представлял собою своего рода произведение искусства. Кроме необходимых театральных, музыкальных и художественных критиков, они пригласили редакторов всех основных газет и журналов. Заглядывая в будущее, Дягилев пригласил нескольких импресарио и директоров оперных театров. Это были Бруссан из Оперы, Альбер Карре из «Опера-Комик», Камиль Бланк и Рауль Гинцбург из Монте-Карло, Гатти-Казацца и Диппель из нью-йоркской «Метрополитен», Хенри Рассел из Бостона.
Хорошо были представлены политики и дипломаты. В центральной ложе сидели министр иностранных дел Пишон и русский посол Нелидов с супругами. Присутствовали также министр труда М.М. Барту (который будет убит вместе с югославским королем Александром) с супругой; министр просвещения Думерг; министр финансов Кайо с супругой (которая в 1914 году убьет редактора «Фигаро» Кальмета); заместитель министра изобразительных искусств Дюжарден-Бометц, основавший консерваторию на рю Мадрид, и д’Эстурнель Констант, сыгравший значительную роль в заключении франко-русского торгового соглашения в 1903 году.
В ложах сидели мадам Греффюль, несколько дней назад давшая для труппы обед в отеле «Грийон»; мадам де Шевинье и ее дочь мадам Бискофшейм; мадам Мадлен Лемер, имевшая свой салон, писавшая розы и чертами которой Пруст наделил отчасти мадам Вердюрен и отчасти мадам де Виллепарисис; княгиня Александра де Шиме, дорогой друг Пруста и сестра Анны де Ноай; и «синий чулок» мадам Бюльто, близкая подруга последней, тоже имевшая литературный салон.
Мир моды был представлен мадам Карон и Пакэн и месье Дейе; литература – Жаном Ришпеном, Жоржем Кеном, Леоном и Люсьеном Доде, Даниель Лезюэр (дама-романистка) и Октавом Мирбо; живопись и карикатуру представляли Поль Элле, Жак Эмиль Бланш, Сем и Жан-Луи Форен, чьи работы Дягилев несколько лет назад помещал в «Мире искусства»; скульптуру – Роден; музыку – Лало, Форе, Сен-Санс, Равель и Эдуард Колонн, оперу – Литвин, Фаррар, Бреваль, Кавальери, Шаляпин, де Решке и Анри Симон; театр – драматург Франсис Круассе, Кайаве, Кулю и Анри де Ротшильд («Андре Паскаль»), тоже поддержавший балет, а также Кларети, директор «Комеди Франсез», Сесиль Сорель, Иветт Тильбер, Жан Марнак, Луиза Балти и Рашель Буайер.
Различия между актрисами и demi-mondains[73] в 1909 году были не слишком очевидными. Интересно отметить, что на вечере присутствовали Луиза де Морнан, которую любил Пруст, а также Мадлен Кар лье, одна из трех женщин в жизни Кокто, которую он сделал героиней «Le Grand Ecart». Присутствовали четыре знаменитые и очень разные танцовщицы – Айседора Дункан, совершившая переворот в искусстве танца; Карлотта Замбелли, нынешняя звезда Оперы, восемь лет назад танцевавшая Коппелию в Петербурге; бывшая балерина Оперы Розита Мори и Марикита, танцевавшая на канате во времена Дебюро (1845), а ныне балетмейстер в «Опера-Комик».
Однако в театре присутствовало намного больше балерин и актрис, чем было упомянуто выше, так как Астрюку пришла в голову замечательная идея – поместить в первом ряду бельэтажа только красивых молодых женщин, с этой целью билеты распространялись среди танцовщиц Оперы и актрис «Комеди Франсез». Ни одного фрака, ни одной лысой головы, чтобы нарушить блестящий полукруг: только красота, бриллианты и обнаженные плечи. Блондинки чередовались с брюнетками. Это ослепительное зрелище, напоминающее корзину оранжерейных цветов, произвело такое впечатление на le tout Paris[74], что во всех театрах, построенных после этого, бельэтаж назывался не le balcon, à la corbeille[75].
Новая красная материя, которой по распоряжению Дягилева обили стены зрительного зала, коридоры и даже кое-где полы, преобразив таким образом запущенный старый театр в яркую новенькую бонбоньерку, повысила ожидания публики.
Тем временем за кулисами Нижинский постепенно превращался в любимого раба Армиды, обитателя иной планеты, чьи законы он инстинктивно понимал и которым подчинялся. Бенуа обратил внимание на то, сколь незначительное представление давали репетиции о том, каким он будет во время спектакля. «Нижинский исполнял все беспрекословно и точно, но это исполнение носило слегка механический или автоматический характер. Но на последних репетициях он точно пробуждался от какой-то летаргии, начинал думать и чувствовать».
Нижинский приехал в Шатле между половиной седьмого и семью. Он переоделся в репетиционный костюм и сам сделал разминку в глубине сцены, затем умылся и наложил грим, что заняло у него полчаса. В артистической уборной царил порядок, костюмы висели в определенной последовательности, и грим был расставлен на туалетном столике с военной точностью. Наконец, Василий помог Нижинскому облачиться в костюм, танцор надел свой белый тюрбан; и костюмерша Мария Степановна зашла проверить, не нужно ли что-нибудь подшить. Бенуа пишет, что «окончательная метаморфоза происходила, когда он надевал костюм, к которому относился с чрезвычайным и неожиданным вниманием, требуя, чтобы все выглядело в точности так, как нарисовано на картине у художника. При этом апатичный с виду Вацлав начинал нервничать и даже капризничать… Вот он постепенно превращается в другое лицо, видит это лицо перед собой в зеркале, видит себя в роли и с этого момента перевоплощается: он буквально входит в свое новое существование и становится другим человеком, притом исключительно пленительным и поэтичным. В той степени, в какой здесь действовало подсознательное, я и усматриваю наличие гениальности. Только гений, то есть нечто никак не поддающееся «естественным» объяснениям, мог стать таким воплотителем «хореографического идеала эпохи рококо», каким был Нижинский в «Павильоне Армиды» – особенно в парижской редакции моего балета».
Нижинскому дела не было до le tout Paris, кипящего от нетерпения по ту сторону красного занавеса.
Программа открывалась балетом Бенуа, дирижировал которым не Эмиль Купер, а его автор Черепнин. По сравнению с петербургской постановкой в «Павильоне Армиды» произошли некоторые изменения. Балет сократился примерно на четверть часа[76], и несколько номеров были изменены с тем, чтобы создать новое па-де-труа для Карсавиной, Балдиной и Нижинского. Бенуа считал, что значительно улучшил декорации и костюмы, которые после того, как Русский балет лишился императорской поддержки, для парижского сезона пришлось сделать заново. «В петербургской версии меня мучили соседство каких-то лиловых, розовых и желтых тонов и некоторая пестрота в перегруженной деталями декорации второй картины. Дефекты эти я теперь исправил». Перспектива сада Армиды вела к барочному tempietto[77] у вершины великолепной лестницы, в Петербурге он стоял под углом, а теперь был виден полностью, и благодаря этому московский машинист сцены, «маг и волшебник» Вальц, ухитрился сделать два фонтана – две гигантские водяные пирамиды по обеим сторонам. Tempietto был заменен далеким дворцом, стоящим среди высоких растущих группами деревьев.
Павлова, связавшая себя контрактом с какой-то другой антрепризой, гастролировала по Европе, и на первых представлениях Армиду должна была танцевать Каралли, которую Бенуа считал «технически умелой и очень красивой женщиной, но слабой и бездушной артисткой». Мордкин, тоже москвич, заменил Гердта в роли Рене де Божанси. «Однако и ему не хватало той нежной «поэтичности», которая составляет основную черту моего героя. Мордкин во всех своих манерах и жестах был слишком силен, здоров и «бодр». Напротив, «Павильон» скорее выиграл от замены в Париже Солян-никова Булгаковым. Особенно удачной у последнего получилась вся та часть роли, которая происходит в сновидении, когда дряхлый маркиз превращается в великолепного царя-чародея Гидрао». Несовершенство главных героев никак не повлияло на успех балета в целом, так как наибольший триумф достался не им.
Бенуа задумал свой балет как прославление «наиболее французской эпохи – XVIII века». Он, потомок французов, немцев и венецианцев, сам носивший французское имя, с гордостью показывал парижанам, что лучше, чем они, понимал благородный стиль Версаля.
«Людям, привыкшим к тем приторным «кондитерским» изделиям, которыми их угощают под видом эпохи рококо парижские театры (например, в постановке «Манон» в «Опера-Комик»), наши краски показались чересчур яркими, а грация наших танцоров несколько вычурной. Зато людям, еще умеющим находить в Версале, в его гобеленах, в раззолоченных залах и стриженых парках подлинный дух того, по-прежнему не стареющего искусства, мы в «Павильоне Армиды» угодили. Среди них были – один из самых наших восторженных друзей граф Робер де Монтескью и «сам» Анри де Ренье»*[78].
Точнее говоря, в «Павильоне» смешались стили барокко и рококо, Людовик XIV и Людовик XV, XVII и XVIII века, но таковым с течением времени стал и сам Версаль.
Русская составляющая постановки заключалась в той непринужденной манере, в которой были написаны декорации. Русские художники и декораторы восприняли энергический импульс от импрессионистов прежде, чем их коллеги из Оперы или «Опера-Комик». Эта энергия соответствовала той затаенной страсти, которую русские танцоры вкладывали в стилистику классического танца. Классический танец в Парижской опере в 1909 году состоял из незначительной доли итальянской виртуозности, искусно приукрашенной французским coquetterie[79]. Разумеется, в музыке «Павильона» были русские интонации и по-настоящему русский характерный танец шутов.
В остальном этот классический балет был обязан своим обогащением романтизму. Это был оригинальный, парадоксальный и типичный для Бенуа ход. Художник позаимствовал идею для своего балета из рассказа Теофиля Готье «Омфала». Действие там происходило в павильоне в стиле рококо, и речь шла об ожившей шпалере Бове*[80], и тем не менее он был романтическим и «гофманианским», это была таинственная и довольно эротическая история с призраком. Еще одна деталь отличала работу Бенуа от традиционного балета того периода и связывала его с литературой или, скорее, с драмой – там почти не было танцев, кроме танца часов в первой сцене, и совсем не было их в последней. Пантомима, сочетая тайну и юмор в стиле «Волшебной флейты», словно обрамляла хореографию.
Черепнин встает за пульт. Раздается призрачный раскат литавр. Кларнет и струнные начали таинственную интродукцию. Под мрачные аккорды, исполняемые пьяниссимо, поднимается занавес, открывая тускло освещенный интерьер барочного павильона. «Высокие окна с богато украшенным oeil-de-boeuf[81] над каждым из них чередуются с колоннами полированного мрамора, а алебастровые лепные аллегорические фигуры над центральной нишей словно почиют на облаках, поддерживая роскошный, украшенный перьями балдахин, нависающий над волшебным гобеленом». Перед ним стоят огромные позолоченные часы с фигурами, олицетворяющими Время и Любовь, их изображают неподвижно стоящие актеры; справа, в занавешенном алькове, кровать и туалетный столик. Через окна видны фонари, лакеи открывают двери, пропуская в павильон зловещего старого маркиза и его застигнутого ночью в пути гостя, виконта Рене, которого сопровождает камердинер, несущий багаж. Со старинной подчеркнутой любезностью хозяин, одетый по моде последних лет царствования Людовика XIV, радушно принимает юного Рене, одежда которого указывает на то, что действие происходит в конце столетия. Рене снимает пальто с капюшоном и стряхивает с него капли дождя. Слуги приносят канделябры, камердинер (в исполнении Григорьева) распаковывает вещи. Маркиз берет один из подсвечников и показывает Рене гобелен. Не используя старый условный язык знаков (проклятие Фокина), он с помощью пантомимы объясняет, что изображенная на гобелене дама, грустно сидящая в окружении слуг с шарфом в руках, – это его давно умершая дочь. Из любви к ней трое мужчин покончили с собой. Рене потрясен ее красотой. Хозяин кланяется на прощанье и уходит, а Рене удаляется в альков и ложится в постель. Лунный свет заливает комнату. Сначала, очарованный гобеленом, он лежит без сна, но наконец засыпает. Фигура, олицетворяющая Время (или Сатурн) на часах, переворачивает свои песочные часы и в короткой мимической сцене терпит поражения от Любви (Амура). Бьет полночь, двенадцать гениев часов (девочки, переодетые мальчиками) выходят через дверцы часов и танцуют механическое андантино, акцентированное аккордами, исполненными на арфах и челестах. Звучит хроматическая тема. Рене пробуждается, встает, смотрит на гобелен, а затем возвращается в постель. Снова звучит та же тема. Рене пугается. Он хочет бежать, но боится показаться смешным. Гобелен неожиданно сворачивается, и на его месте появляется живая дочь маркиза – на самом деле это волшебница Армида, в той же позе, что и на гобелене, с шарфом, в окружении своих придворных. Армида обвивает шарфом шею воображаемого Ринальдо, а затем постепенно начинает осознавать, что возлюбленного здесь нет. Она жалобно спрашивает женщин, стоящих слева от нее, где он. Они отвечают печальными, безнадежными жестами. Она задает тот же вопрос мужчинам справа и снова получает отрицательный ответ. Под словно рыдающую мелодию, подъемы и падения которой олицетворяют надежду, сменяющуюся отчаянием, Армида выходит из рамы и как будто видит Ринальдо, но затем разочарованно качает головой. Она просит придворных дам сыграть на арфах и заканчивает свой плач, горестно падая на одно колено.
Тем временем Рене накинул халат и украдкой обошел вокруг Армиды. И вот наступает решающий момент. Когда она опускается на колено, он протягивает к ней руки, чтобы поднять ее. Она вздрагивает, узнает в нем давно потерянного Ринальдо, и с восторгом приветствует его. Ночные одеяния Рене спадают, и он предстает в парике и героическом «римском» костюме времен Людовика XIV, так что теперь он стоит, обращенный к Армиде, похожий на великолепную статую в стиле барокко. В то же мгновение под неистовый ритм оркестра стены павильона исчезают, и мы оказываемся в залитом ярким солнечным светом саду. Естественная рамка кустарника – единственный элемент декора, выполненный в романтически-пасторальном стиле рококо, вызывает ассоциации с картинами Фрагонара и Гюбера Робера и создает великолепную симметрию сада Армиды. Часть сцены, отведенная для танцев, очерчена полукругом темных подстриженных деревьев, в то время как поднимающийся вдали среди деревьев дворец Армиды, круглый с портиком, напоминает по своей фантастичности пьемонтские дворцы на фоне Альп. Дворец венчает обелиск или шпиль, как у захаровского здания Адмиралтейства в Петербурге. Растительность подстрижена в форме обелисков, воплощая идею Тьеполо о пирамидах; по бокам сцены бьют два высоких фонтана, такой же остроконечной формы (вода для них поступает из протекающей поблизости Сены), их плеск сливается с музыкой. Очень похоже на Версаль, хотя это явно не он.
На вершине лестницы стоит величественная фигура – старый маркиз, превратившийся в могущественного волшебника, царя Гидрао. Он облачен в длинную золотистую мантию, его головной убор, похожий на митру, увенчан голубыми страусовыми перьями. Он взмахнул своим высоким посохом, показывая, что именно он совершил это волшебное превращение, и стал медленно спускаться по ступеням. Армида повела Ринальдо вдоль сцены. Появились еще придворные и встали группами. По замыслу Фокина и Бенуа, доминирующие в одеяниях придворных розовые и зеленые тона, лучше всего смотревшиеся с верхних ярусов театра, как бы повторяли узор абиссинского ковра. Другие группы танцоров, словно из-под земли, поднялись из люков – это нубийцы с огромными опахалами из белых перьев. Армида облачена в синюю мантию, расшитую блестками и украшенную золотыми кистями, и белую муслиновую юбку. Ее золотисто-белый тюрбан переплетен жемчугом. Придворные выступают торжественной процессией, а чародейка ведет своего возлюбленного в левую часть сцены к возвышению, с которого они станут смотреть дивертисмент.
Следуют танцы, включая благородный вальс для восьми пар танцоров, гротескную восточную вакханалию для восьми балерин (включая Фокину, Брониславу Нижинскую, Шоллар и Чернышеву) в сопровождении игры на ксилофоне и комический танец, в котором шестеро отвратительных хромых монстров находят прекрасные маски с локонами, сделанными из стружек, с их помощью вводят в заблуждение хорошеньких молодых ведьм и уговаривают их принять участие в шабаше. Эти танцевальные номера перемежались проходящими через сцену процессиями, одна из которых величественно сопровождала торжественный танец для струнных со звуками трубы.
Однако наиболее зрелищным номером стало па-де-труа, которое исполняли две наперсницы Армиды, Карсавина и Балдина, и ее любимый раб, Нижинский. Костюм последнего, выдержанный в белых, желтых и серебряных тонах, украшенный шелковыми фестонами, кружевными манжетами и горностаевыми хвостами, представляет собой упрощенную форму придворного мужского танцевального костюма XVIII века, придуманного Боке, с tonnelet[82]или «проволочными» полами – преувеличенное развитие килта, который танцоры времен Людовика XIV надевали под стилизованные римские доспехи; и бриджи до колен. На голове – белый шелковый тюрбан со страусовым пером; вокруг шеи, высоко, под самым подбородком, драгоценное ожерелье. Дамы одеты в золотисто-желтые тона. Цитирую Джеффри Уитуэрта: «Это был изумительный момент, когда Нижинский осуществил свой первый на удивление скромный выход на замечательную розово-зелено-голубую сцену…» Первая часть па-де-труа, когда все трое танцуют вместе, исполнялась под ритмичную мелодию заунывного английского рожка, и, пока танцоры поднимались, опускались, отбивали такт и кружились, парижане внезапно поняли, что никогда прежде не видели танца столь высокого уровня, все возрастал приглушенный гул голосов, выражавших восхищение. В конце номера танцоры уходили со сцены, Нижинский шел последним, чтобы вновь появиться в соло. В тот вечер, взволнованный теплым приемом публики, вместо того чтобы просто идти, он решил прыгать и взлетал все выше и выше, словно пытаясь достичь верхушек деревьев, и никто не смог уловить тот момент, когда он стал опускаться. Парижане никогда не видели подобного прыжка. Недоверчивый вздох перерос в гром аплодисментов. Во Францию вернулся Вестрис.
Мелодия соло Нижинского довольно банальна, типичная мужская вариация, оркестрованная для всего оркестра, аллегро ризолуто [83]. Он начал с того, что приподнялся на полупальцы и стал прыгать с одного края сцены на другой. Эти высокие прыжки чередовались с пируэтами. Затем он выполнил более простые, но особенно элегантные движения (которые позднее часто копировались) – наклонялся вперед, касаясь правой рукой левой ноги, в то время как левая рука была вытянута назад. Эти стилизованные реверансы, выполненные дважды в различных направлениях, перемежались кабриолями[84]. Танцуя, Нижинский ощущал непривычное волнение публики, и это пугало его. Шум становился все громче. В конце танца раздался гром аплодисментов. Партия любимого раба – чисто танцевальная, она была внесена в балет Фокиным специально для того, чтобы продемонстрировать виртуозную технику Нижинского, она не имеет драматического развития и не играет роли в истории Рене, и все же отсвет страстности Нижинского преобразил всю сцену. Снова цитирую Джеффри Уитуэрта: «Яркий лучезарный мальчик – своего рода носитель таинств, само его присутствие меняло характер «Армиды», она уже не казалась всего лишь несравненной демонстрацией восхитительных форм в прекрасных движениях, а скорее проявлением состояния бытия, удивительного и совершенно отличного от нашего. Можно подумать, что двор Армиды – это некая часть определенного устоявшегося государственного устройства, со своими законами, обычаями и своей ежедневной деятельностью… Секрет этого эффекта частично определяется убедительностью той отчужденности, которую Нижинский привносит в свое исполнение…»
Затем последовало соло Балдиной, которое начиналось величественно и убыстрялось к концу. Музыка прерывалась короткими паузами, что позволяло ей удерживать поразительные ат-титюды.
Танец Карсавиной представлял собой небольшое жизнерадостное аллегро под челесту и колокольчики и напоминал соло Феи Драже из «Щелкунчика», а гармония движений ее ног, ее поэтических пор-де-бра, ее яркой экзотической красоты и волшебной улыбки, озарявшей лицо, произвела большое впечатление на восприимчивую парижскую публику. Пируэты – руки раскрыты, одна вверху, другая внизу, голова откинута назад к отведенной руке, затем эпольман[85], и, наконец, выразительно опущенные руки соединяются ей couronne[86] – миниатюра в целом превратилась в шедевр благодаря экспрессии и красоте чарующих эпольман. Она закончила диагональю быстрых легких шагов, приподняв брови и с озорной гримаской глядя на свои руки, которые держала перед собой на уровне талии, так что кончики пальцев почти соприкасались, и замерла в характерной для XVIII века позе*[87]. Снова Черепнину пришлось ждать, пока не стихнут аплодисменты, прежде чем он смог начать коду.
Нижинский выпорхнул на сцену под легкую мелодию кларнетов и струнных. Две девушки появились в более медленном темпе, затем все трое соединились в блистательном завершении па-де-труа в сопровождении всего оркестра, играющего фортиссимо.
Публика была очарована спектаклем и изумлена, открыв для себя возможности классического танца. До окончания сцены зрителей ждал еще один сюрприз – они впервые увидели русский характерный танец. Танец шутов, которым заканчивается дивертисмент, – это эксцентрический номер, выполненный на большой скорости под отрывистую комическую мелодию, ритм которой отмечен тамбурином и треугольником. Фокин считал этот танец самым трудным из всех, которые он когда-либо ставил. Его возглавил бывший одноклассник Нижинского Розай. Он выполнял шаг «кобблер», кружился согнувшись, высоко прыгал, проделывал невероятные антраша[88] и затем приземлялся на одно колено. Остальные шестеро юношей выполняли движения, казавшиеся столь же невероятными: падали на пол, скрестив ноги по-турецки, тотчас же вскакивали и хватали друг друга за ноги, взмывая в воздух. Воспринятый публикой как кульминация всего балета, этот танец привел аудиторию в такое неистовство, что вызвал столь же бурные аплодисменты, как и танец Нижинского*[89].
Каралли сошла со своего трона и станцевала изящное аллегретто под аккомпанемент флейты, арфы и колокольчиков. Это ее pas d’echarpe, ее дуэт с волшебным золотым шарфом. Затем последовало па-де-де под превосходную мелодию, во время которого, чтобы окончательно околдовать Рене, Армида обвязала его шею шарфом. После вальса, который исполнили все придворные, Армида и Ринальдо с длинными свисающими с их плеч шлейфами, которые несут вслед за ними пажи, выступают торжественной процессией, словно празднуя свой союз под величавую музыку арф глиссанди [90].
Там было много красивых проходов по сцене. Затем, когда свет стал более тусклым и на сцене снова появился интерьер павильона, Каралли и Мордкин поднялись по лестнице, находившейся в глубине и скрытой теперь стенами павильона, и вошли вместе с несколькими придворными в раму гобелена. В раме предстала та же самая группа, что и в начале, за исключением того, что золотой шарф Армиды окутывал теперь ее возлюбленного. Потом свет становится еще более тусклым, настоящий гобелен опускается и скрывает их. На этой нарисованной композиции Ринальдо, конечно, нет.

Жан Кокто. Рис. Льва Бакста
Сцена с альковом, завешанным пологом, где, как считается, спит Рене (на самом деле Мордкин в этот момент переодевается в свою дорожную одежду), остается пустой почти на три минуты. Исполняются «Восход солнца» и «Пастораль» Черепнина в качестве интерлюдии. Сначала звучит рожок, затем флейта и гобой создают своеобразную пейзажную картину, как в «Сильвии» Делиба, предполагается, будто павильон находится ан fond des bois[91]. Внезапно раздается арпеджио на арфе, оно звучит все быстрее и громче до тех пор, пока со звоном тарелок и колокольчиков не встает солнце. Слышна свирель пастуха, и музыка словно сгущается, когда пастух с пастушкой гонят свое стадо мимо окон. Они скрываются вдалеке, и картина заканчивается диминуэндо[92]. Хорошо оркестрованный фрагмент Черепнина опирается на Пасторальную симфонию и последний акт «Тристана» и ведет к «Дафнису и Хлое» (автор этого балета находился среди зрителей).
Драма подошла к завершению. В суету слуг, пришедших проводить Рене в путь, представленную тремоло скрипок, вторгается уже звучавшая ранее, зловещая тема бас-кларнета и виолончели, – она напоминает о старом маркизе. Последний приветствует Рене, который все еще пребывает под впечатлением того, что считает сном. Но маркиз показывает на золотой шарф, висящий на часах. Охваченный ужасом Рене понимает, что стал рабом волшебницы Армиды. Под оглушительные звуки оркестра, где преобладают духовые инструменты, он замертво падает к ногам старика, ударившись об пол.
Когда по окончании «Павильона Армиды» опустился занавес, раздался шквал аплодисментов, громкие возгласы одобрения продолжались несколько минут. Мордкин выводил вперед Каралли, а Нижинский – Карсавину и Балдину. Мужчины никогда не выходят на вызовы без партнерш. Когда в зрительном зале зажегся свет, господа, сидевшие в партере, как всегда, встали, раскрыли свои шелковые цилиндры, надели их, поднесли к глазам бинокли и принялись разглядывать сидевших в ложах дам, приподнимая шляпы и приветствуя тех, с кем встречались взглядами. Карикатурист Сем направился к первому ряду бельэтажа, чтобы поговорить с одной из собранных там шестидесяти трех красавиц, но Астрюк отдал распоряжение, что ни один представитель мужского пола не должен испортить единства его «бриллиантовой подковы», и garde municipal[93] вежливо попросил его уйти. Не все зрители, как позже вспоминал Жан Луи Водуайе, восхищались русскими, можно представить себе, что некоторые танцоры Оперы, с одной стороны, и Айседора Дункан – с другой, относились к ним достаточно сдержанно, но большинство зрителей открыло для себя, что балет – это серьезное искусство, такое же, каким он был во времена Тальони, и что мужчина в балете может быть артистом высочайшего уровня. Робер де Монтескью громким фальцетом превозносил совершенство русских, помахивая тросточкой с золотым набалдашником, словно скипетром, с помощью которого он управлял парижским обществом. Жан Кокто переходил из ложи в ложу, проповедуя евангелие от Дягилева. Мадам де Шевинье в бриллиантовом колье устроила прием*[94].
Если бы мы не знали, что репертуар этого дягилевского сезона был в значительной мере определен необходимостью довольствоваться уже существующими работами, немного приукрасив их, а не результатом тщательного планирования, то нам следовало бы прийти в восторг оттого, что акт с половецким станом из оперы «Князь Игорь» поместили после «Павильона», и оценить это как ловкий ход построения программы: никакие другие две работы не отличались сильнее друг от друга, и невозможно было лучше просчитать, как в полной мере показать диапазон возможностей русского балета. Зрителей словно перенесли на волшебном ковре-самолете из великолепного сказочного Версаля в далекие пустынные азиатские степи. Чтобы усилить эффект необъятности и запустения, Николай Рерих отказался от боковых кулис и написал декорацию на изогнутом холсте. Хотя Гордон Крэг предпочитал иметь дело с вертикалями, а не горизонталями, тем не менее нечто крэговское ощущается в простоте и мощи декорации Рериха. Почти всю ее занимает золотистое небо, покрытое розоватыми облаками. На этом фоне выделяются силуэты невысоких зеленовато-серых холмов, разделенные широкой извивающейся рекой и наполовину скрытые красновато-коричневыми, теснящимися, как ульи, юртами половцев. Великолепное воплощение заброшенного сердца обширного континента.
С первого же мгновения после поднятия занавеса публику охватывает ощущение полной чужеродности этой неведомой земли, раскинувшейся между Персией, Татарией и Китаем, скудно заселенной воинственными племенами. Восточная окраска музыки Бородина становится очевидной с первой же протяжной песни девушек – служанок ханской дочери Кончаковны. Девушки не только поют, но и танцуют, возглавляемые Софьей Федоровой. Это контрастное престо[95] – единственный танцевальный номер в первой половине акта, и лишь в конце его неистовые хореографические фантазии Фокина словно выплеснутся на свободу. Кончаковна в исполнении Петренко поет пронизанную жаждой любви каватину «Меркнет свет дневной». Мимо ведут с работы русских пленников. Кончаковна приказывает женщинам напоить их, и те благодарят ее. Следует разъезд половецких воинов. Наступила ночь. Появляется сын князя Игоря Владимир, партию которого исполняет тенор Смирнов. Он и половецкая принцесса влюблены друг в друга. За его арией «Медленно день угасал» следует их страстный дуэт. Они уходят, и появляется князь Игорь, чтобы оплакать свое пленение – это баритон Шаронов. Льстивый Овлур предлагает помочь ему бежать, но князь отказывается. Затем следует выход самого князя Кончака в исполнении баса Запорожца, и происходит впечатляющий диалог, в котором вождь половцев обещает выполнить любое желание пленника, чтобы смягчить горечь пребывания в неволе, на что русский князь отвечает, что ему не нужно ничего, кроме свободы. Даже это хан готов даровать Игорю, если тот поклянется никогда больше не воевать против него. Игорь не может этого обещать, его благородная честность побуждает хана созвать своих единоплеменников, их детей и пленников, чтобы развлечь Игоря танцем, который в постановке Фокина будет идти по сценам Европы и Америки в течение многих лет. Толпа варваров заполнила сцену. «Свирепые на вид, с перепачканными копотью и грязью лицами, в зеленых одеяниях, испещренных красными и коричневато-желтыми пятнами, и ярких полосатых штанах, их сборище больше напоминало логовище диких зверей, чем человеческий стан».
Сначала, волнообразно двигаясь, появляются восточные девушки-пленницы под медленно текущие чувственные звуки гобоя и валторны, к которой присоединяются скрипки под аккомпанемент деревянных духовых инструментов и арф. После стремительного танца диких кочевников удары тимпана приводят с собой воинов хана, возглавляемых Больмом, атакующих, скачущих и размахивающих луками под звуки хора и всего оркестра. Начавшаяся с едва слышного затакта, музыка словно взбирается по лестнице до тех пор, пока верхние ноты струнных и деревянных духовых не достигнут верхнего регистра. Выпархивают пленницы, и в конце танца половецкие воины вскидывают их себе на плечи. Затем следует веселый танец мальчиков с деревянными наколенниками и деревянными трещотками в руках, которые они ударяют друг о друга, когда прыгают и бегут на месте, высоко вскидывая ноги; их танец предшествует второму выходу половецких воинов, снова сопровождаемых хором. С этого момента мальчики, девушки, пленники и воины в сопровождении соответствующих мелодий последовательно сменяют друг друга. Певцы, восхваляющие хана, создают как бы поддерживающий звуковой фон к быстрому ритму танцоров, и сцена заканчивается мощным единением движения и звука. Во главе своих воинов Больм несется прямо на публику, переворачивается в воздухе и, падая на одно колено, стреляет из лука.


