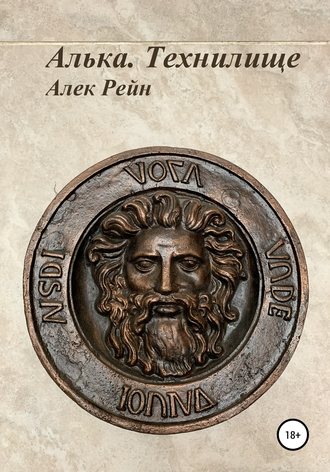
Алек Владимирович Рейн
Алька. Технилище
– Как на щебёнке еб…ся – здоровье есть, а как в колхоз ехать, так нет?
Наш безудержный, оглушительный, неудержимый хохот был таков, что весь отдел в полном составе сбежался понять его причину, не обошлось без потерь: одна девчушка умчалась в панике – смеялась так, что чутка приписалась, и Женька свалился со стула.
Начальник, вскочив со стула, начал плавно махать сверху вниз двумя руками, пытаясь нас успокоить, и заявил:
– Всё, расходимся, расходимся. Решим в рабочем порядке.
Решили. Поехала Инна, но уезжала в хорошем настроении, наверно, Моисеич нашёл возможность деньжонок подкинуть.
***
Как-то ночью меня разбудила мама, постучалась к нам в комнату, не дождавшись ответа, приоткрыла дверь и сказала испуганным голосом:
– Алек, ты слышишь? Кто-то пилит.
Я спросонья никак не мог понять, что она от меня хочет.
– Мам! Кто пилит, о чём ты?
– Да ты прислушайся.
Я прислушался – действительно кто-то что-то пилил.
– Мам, ну не нашу же дверь пилят, пусть себе пилят, давай спать.
Мама ушла к себе в комнату, я заснул. Выходя утром из квартиры, понял, кто пилил – в соседской двери на уровне головы было выпилено небольшое квадратное окошко. Выпилено было весьма аккуратно, и выпиленная часть была вставлена в окошко.
В этой квартире жили соседка – девица лет двадцати пяти и мой ровесник Славка, мы с ним учились в одной школе в параллельных классах, с матерью. Ну, соседка вряд ли стала бы что-то пилить, вдобавок ночью, а Славка мог. Он последние годы пил в чёрную. Я вообще-то решил, что он окошко выпилил, чтобы использовать выпиленное отверстие в качестве дверного глазка – почему нет? Даже оригинально, но почему ночью? Я ошибался.
Вечером, придя из института, узнал, что Славку забрали в дурку по причине белой горячки, а окошко он выпилил для того, чтобы выкидывать из квартиры каких-то мелких существ, допекающих его, судя по всему, чертей, очень уж вёрткие были. Он их веником выметет за дверь, только соберётся дверь закрыть – а они опять в квартире. Решил выпилить окошко – ловить и выбрасывать их по одному, чем и занимался всю ночь.
Он чудил уже давно. У него собирались весёлые компании, гуляли сутками напролёт, нас выручало только качество домов «сталинской постройки» – звукоизоляция у них была на высоте и, как следствие, звуконепроницаемость тоже. А вот соседка его регулярно обращалась к нам за помощью, а чем мы могли ей помочь, если там и милиция была бессильна?
Однажды среди ночи раздались женские крики о помощи. Оделся, сунулся в соседскую дверь – дверь закрыта, позвонил – никто не открывает, пока стучал и звонил в дверь, спустился сосед сверху – стали ломиться вдвоём, минут через десять дверь открыла соседка. Я спросил:
– Это Вы кричали?
Она отрицательно покрутила головой, махнула рукой в сторону Славкиной комнаты и ушла к себе.
Квартира была трёхкомнатная, две комнаты в ней занимали Славка с матерью. Мать постоянно болела и на Славку никакого влияния не имела.
Мы зашли в его комнату, в комнате был только он, надо полагать, что гости Славкины слиняли, почувствовав жареное. Комната его поразила аскетизмом – мебели в общепринятом понимании в ней не было никакой. Тем не менее всё, что необходимо для проживания, в ней было: слева от входа был обеденный стол, представляющий из себя столешницу, которая явно была отсоединена от обеденного стола, кем-то выброшенного ввиду полной непригодности, поставленную на три деревянных ящика для бутылок, поставленных на попа; по периметру вокруг столешницы стояли шесть «стульев» – в смысле шесть деревянных ящиков для бутылок; напротив входа на полу лежали два пружинных матраса; справа в углу были сложены в колонну пять или шесть пустых таких же ящиков, очевидно, для нежданных гостей или каких-то внезапных нужд. Никакой одежды, занавесок, белья и прочего тряпья в комнате не было. Меня удивило, что в комнате было довольно чисто.
Славка, сидевший у стола, заставленного пустыми бутылками, стаканами и закуской, лежащей на газетах, с удивлением поглядел на нас, узнал меня и спросил:
– Алька, ты чего здесь?
Сосед сверху стал, не дожидаясь моего ответа, материть Славика, обещая намять ему глаз, посадить в тюрьму, выселить к чёртовой матери, закопать во дворе в снегу и прочие кары. Славка слушал его с изумлением, затем опять поглядел на меня и произнёс:
– Это кто? Он с тобой?
– Это сосед твой сверху.
– А чего он ругается?
Тут сосед наш, понявший, что пугать Славку бесполезно, сказал спокойно:
– Слушай, ну, спать невозможно, каждый вечер у тебя гомон, ор, скандалы, бабы визжат.
Лицо Славика погрустнело, он развёл руками, опять повернулся ко мне и печально произнёс:
– Гости у меня.
Не зная, что возразить против такого очевидного факта, сосед замолчал, было понятно, что разъяснить ему в его счастливом состоянии что-то невозможно, выручил нас прибывший наряд милиции, который бесцеремонно взял его под белы руки и поволок на выход.
Когда умерла его мать и гроб с её телом выносили из квартиры, Славка, как обычно, был пьян, но с выражением скорби на испитой физиономии пытался принимать деятельное участие в выносе тела, которое ограничилось пожеланием:
– Вы там не уроните её.
После того как гроб снесли на один лестничный пролет, Славик повернулся и ушёл в квартиру. На кладбище он не поехал. Впрочем, пережил он её не на много – года на три.
В институте в нашей группе появилось несколько новых ребят: семейная пара Агеевы Борька и Ириша, завели ребёнка – дочку, отстали на год от своей группы, попали к нам, Володька Павлов, тоже отставший от своей, правда, вечерней, группы, рослый спортивный парень, постарше меня на пару лет. Вовка работал учебным мастером в нашем вузе, знал всех преподавателей и учебных мастеров нашей профильной кафедры, с его лёгкой руки пошла у нас привычка называть наш краснознамённый вуз Технилищем.
Технилище – это сокращение от технического училища, ведь мы учились в высшем техническом училище.
В середине октября гуляли на свадьбе Димки Мурзина и Татьяны Улицкой, Димка не поленился, простоял ночь в очереди, прокатились на «Чайке». Молодые, оба удивительно красивые, помнится, вошли в подъезд, а лифт занят, все пошли пешком по лестнице, Димка, увидев, что Танюшка чуть запыхалась, взял её на руки под наш одобрительный рёв и понёс на руках до шестого этажа, красава. Нам посидеть, как положено, не удалось, дома, как-никак, маленький ждал.
На работе у нас сменился начальник отдела. Павел Иванович – так звали нового начальника – молодой мужчина лет сорока пяти, числился в нашем отделе, был освобождённым парторгом института, вернувшись в отдел уже в качестве начальника, затеял, как полагается новой метле, перестановку. Один из наших гипов-старожилов, понаблюдав за происходящей перестановкой, решил принять в ней участие и, подойдя к новому руководителю, предложил:
– Паш, ты эти столы переставь сюда, а те… – но Пал Иваныч не дал ему закончить, произнеся голосом, в котором звучал металл:
– Идите на свое рабочее место.
Все поняли: либерализму Евгения Моисеевича пришёл конец, Паша решил навести порядок. Железной рукой.
После перестановки столов и кульманов, которая, по моему разумению, пользы не принесла, Паша взялся за экономиста отдела – чернявую женщину лет сорока с небольшим по фамилии Ашкенази, появившуюся в отделе практически одновременно со мной. Причиной его пристального внимания стали странные факты, происходившие с ней и с нами за время работы её у нас в отделе.
Дама эта была весьма деятельна, поначалу она копалась в каких-то бумагах, была незаметна, как какая-то маленькая чёрная мышка в горе бумажного хлама. Довольно быстро подружилась со всеми дамами отдела и через полгода стала подменять нашего кассира – женщину, выдающую зарплату в отделе. Дело в том, что бухгалтерия и касса института располагались в основном здании, находящемся в двадцати минутах хода от места нашего расположения, и отправлять туда сотрудников два раза в месяц за зарплатой и авансом было бы обременительно сотрудникам. А ведь, кроме нашего отдела, на заводской территории были и другие отделы и лаборатории, все они теряли бы примерно один рабочий день в месяц, для того чтобы избежать таких потерь, в отделах, не знаю, на каких условиях, один из сотрудников, как правило, это был кто-нибудь из женщин, получал деньги за своё подразделение в кассе института и выдавал зарплату. Через полгода, после того как наш прыткий экономист утвердилась в роли кассира, в день получения зарплаты, вернувшись на рабочие места после обеденного перерыва, мы застали её рыдавшей за своим столом. Сбежавшиеся сердобольные наши тётки выяснили, что из её письменного стола пропала вся зарплата нашего отдела, которую она опрометчиво забыла там, на несколько секунд отлучившись в туалет. Пара из этих активисток стала активно продвигать мысль о том, что каждому из нас придётся добровольно отказаться от своей зарплаты в этом месяце, но, увы, бессердечные свиньи, коими являлось абсолютное большинство работников отдела, и я в том числе, эту идею жёстко забаллотировали. Экономистка наша ревела как белуга, работа стояла, призывы Невского заняться делом игнорировали, не знаю, каким путём, но руководство решило проблему и деньги нам выдали. Ашкенази поревела ещё пару дней, успокоилась и продолжила выдавать деньги сотрудникам. А то, что никто из начальства не решил обратиться в милицию, никого не удивило, теория не вынесения сора из избы жила, живёт и побеждает.
Каково же было наше удивление, когда через полгода, когда, также вернувшись из столовой в отдел, мы застали нашу неунывающую экономистку в слезах, рыдающую по поводу чего бы вы подумали? Бинго, угадали опять пропала наша зарплата. Снова у нашей простушки попятили наши деньги, и снова на рабочем месте. Но не из стола и не когда она отходила, а совсем, совсем иначе, как-то вроде бы нагнулась, отвернулась – и тут гоп-стоп-хлоп – денег нет. Что тут началось, какие-то крамольники – есть же такая сволочь на свете, предложили просто-напросто вызвать ментов, вот же волки позорные, неужто нельзя разобраться, как поступают интеллигентные люди? Заплакать, простить, забыть и разойтись миром, так нет же, давайте беспокоить милицию, отрывать её от важных дел – руки пьяным крутить. Обошлось, слава богу, не побеспокоили, но так напугали этих жуликов-подлецов, что они часть денег вроде бы подбросили, не помню кому, в письменный стол. Зарплату нам опять с опозданием, но выплатили. Нашу вновь обретённую кассиршу отстранили от функций раздачи денег, сократив её ипостась до единственной роли – экономиста. Ушёл, а может, ушли – из-за таких катаклизмов кого угодно уйдут – обходительный Евгений Моисеевич Невский и пришёл деятельный и твёрдый как шанкр Пал Иванович, решивший узнать, чем занималась наша непотопляемая экономистка, чем должна заниматься, в чём были её функции и каковы результаты её деятельности. Поскольку, как я рассказывал, стол мой был через проход, не подумайте ничего плохого, прямо напротив её стола, мне было очень интересно наблюдать за их беседами. Они сидели с Пал Иванычем за её столом, начальник наш требовал показать ему какие-то материалы, которые она должна была в соответствии со служебными инструкциями к её должности регулярно продуцировать. Экономистка наша с возмущением извлекала из стола какие-то огромные фолианты, швыряла их перед Пал Иванычем, оба пропадали к клубах пыли, но когда пыль оседала, возникал Пал Иваныч, который методично, неспешно и неумолимо разрушал все аргументы своей подчинённой о том, что сея труды созданы ею и что они вообще необходимы для функционирования отдела. Доказав, что это просто лексически доработанная инструкция по обслуживанию доильного аппарата, Пал Иваныч требовал более весомых подтверждений плодотворности её труда на должности экономиста отдела и, не получив таковых, потребовал принести диплом экономического вуза, который закончила его визави. Оказалось, что диплом был утерян во время жизненных перипетий, но есть его машинописная копия, заверенная печатью пункта приёма стеклотары или какой-то сходной конторы. Ну а требование подлинника трудовой книжки ввергло нашу Ашкенази в такую депрессию, что на следующий день она на работу не вышла. Куда она запропала и что с ней стало, не известно, говорили, что она уволилась по собственному, что её уволили по статье, что её ищет милиция, кто знает, может, уже нашли.
***
В октябре мне пришла повестка из военкомата, я-то, признаться, решил, что про меня совсем забыли, оказалось, нет, надо идти. В военкомате разрешилось всё просто – вручили направление на обследование меня на пригодность к военной службе в аттестованной московской клинике.
Вот тут я завибрировал: то, что три года назад не вызывало у меня никаких треволнений, сегодня серьёзно обеспокоило. Ещё бы, я был не тот развесёлый шлепок, готовый ввязаться в любой базар, кроме голодовки, – был, увы, уже женат, у меня рос сын, наконец, я учился на втором курсе одного из лучших вузов страны. Что будет, если оторвать меня на пару лет от семьи и учёбы, – потери по всем пунктам. Смогу ли я учиться дальше, сохраню ли семью – одни вопросы, вопросы без ответов, но главное – я просто не представлял себе, как я оставлю Людмилу с сыном одних, что она будет делать одна, кто ей поможет. Я понимал, что и моя мать, и тёща как-то посильно будут помогать, но… Но деваться некуда, надо было ложиться в больницу, и я, запихнув в сумку тренировочный костюм Георгия красного цвета, который был мне безмерно велик, заявился в клинику.
Поскольку больница была переполнена, меня положили в коридоре, и старшая сестра, пробегавшая мимо по коридору вечером первого дня моего там пребывания, вдруг остановилась и спросила меня:
– А ты с каким диагнозом лежишь?
– Да пока без какого-нибудь – я на обследовании, положен я от военкомата, чтобы у меня нашли какую-нибудь болезнь, которая ослобонит меня от непосильной мне в силу хилости солдатской службы.
– От армии косишь.
– Типун Вам на язык, женщина, я, может, последние денёчки коротаю.
– А я и думаю, от чего ты тут лечишь в спортивном костюме не по росту.
– Костюм выдали мне в секции физкультурников-дистрофиков, он один на всех, потому и такого большого размера и выдаётся по необходимости любому: кому на свадьбу, кому на первое свидание с девушкой, мне выдали, чтобы я в больнице не позорил родной туберкулёзный диспансер.
– Пошли со мной.
По дороге она растолковала, что у них на отделение только один санитар, есть санитарки, которым невмоготу таскать тяжёлые грузы, и если у меня есть мать, или сестра, или жена, или совесть и доброта, то раз или пару раз в день она меня будет привлекать в помощь их санитару за дополнительную порцию компота.
Я поинтересовался:
– А то, чего таскать-то, оно хоть чистое?
– Это будь уверен, всё промыто в лучшем виде.
Мы поднялись на лифте на несколько этажей, подошли к палате, возле которой стояли каталка и долговязый сорокалетний мужик в несвежем больничном халате, подойдя к которому, она сказала:
– Парень военкоматский на втором этаже лежит, обещает помочь, – развернулась и ушла.
Санитар взялся за ручки каталки и буркнул мне:
– Дверь подержи.
Я открыл дверь, санитар вкатил каталку в палату, проследовал за ним. Санитар подкатил каталку к одной из кроватей, я подошёл: на кровати лежал труп мужчины неопределённого возраста, стало понятно, какие промытые грузы нужно было помогать таскать. Что поделать, дело житейское, видно, гены матери – фронтовой медсестры – сработали, я не ощущал никаких отрицательных эмоций, работа есть работа, почему не помочь? Закинули труп на каталку, отвезли в морг. В морге санитар поднял ногу трупа под девяносто градусов вверх и резко повернул её вбок, труп слетел с каталки, как будто сам спрыгнул. Мне не однажды пришлось помогать этому санитару, и на второй день я ему сказал:
– Слушай, давай их как-то по-людски складывать.
– А на кой х…
– Мне как-то не по сердцу просто сбрасывать их на пол, а вдруг башка расколется.
– Двадцать лет скидываю, что-то ни одна не раскололась.
В итоге мы пришли к компромиссу: приподнимали тело над носилками и кидали плашмя на пол, он – за ноги, я – за предплечья, а дальше не его забота. А я уже у пола подхватывал голову и аккуратно клал её на пол. Какой-нибудь внятной мотивации своим действиям я привести не мог, да и сейчас её сложно подыскать и, наверное, не нужно. А санитару явно нравилось всё это моё действие, оно его развлекало, вносило какое-то разнообразие в его монотонный труд.
После прохождения всех необходимых процедур и сдачи анализов заведующая отделения вызвала меня к себе в кабинет и завела со мной туманный разговор:
– Вы знаете, в целом предварительная картина такова, что если у Вас и была бронхоэктатическая болезнь, то сейчас её скорее нет, видите ли, человеческий организм обладает способностью к регенерации. Но дело даже не в этом, у нас в клинике одна врач пишет кандидатскую диссертацию по бронхоэктатической болезни, ей необходимы развёрнутые рентгенограммы бронхов, нужно чуть побольше снимочков, чем в Вашем случае, если вы согласитесь на более развёрнутое обследование, то Вам от этого будет только польза, бронхи заполняются контрастным материалом, он содержит лекарства, помогающие при болезни. А вещество это безвредное – что-то вроде мела, Вы его через неделю откашляете, и всё пройдёт.
– Так Вы же утверждаете, что я здоров, а какая же польза здоровому человеку в таком случае?
– Да ничего страшного с Вами не произойдёт, покашляете три дня – вот контраст и отойдёт вместе с мокротой.
– Ну, как скажете, я-то не возражаю против обследования, но боюсь, что в том варианте, который Вы предлагаете оно мне пользы не принесёт однозначно.
Заведующая откинулась на стуле и несколько минут внимательно изучала мою простецкую физиономию, я пытался состроить значительное выражение на роже, что-то вроде того: «меня на козе не объедешь», – после чего она сказала:
– Я думаю, что исследования пойдут на пользу и Вам, и нашей сотруднице.
Не очень понимая, какую пользу принесут мне эксперименты над моим организмом, но тем не менее полагая, что мне не резон портить отношения с заведующей отделения, которая будет решать, где проведу ближайшие пару лет, я развернулся и пошёл на своё дежурное место в коридоре – меня ещё ожидали увлекательные упражнения по переносу тяжестей. Признаться, я и не шибко заморочился, как я понял, предстоящая процедура будет пустячной.
На следующий день в рентген-кабинете в меня, не помню как, влили какой-то густой, как сметана, жидкости, потом привязали ремнями к столу и стали делать снимки стоя, сидя, лежа, сбоку, под углом и бог знает как ещё. Молодая врачиха, производящая все эти экзекуции, мячиком скакала вокруг меня, приговаривая:
– Ой, какие снимки чудесные, бронхи прям как ёлочки новогодние.
По окончании стол рентген-аппарата привели в горизонтальное положение, меня отстегнули, и врачиха сказала:
– Вы пока на лавочке посидите, мы снимки допроявим, вдруг что-то надо будет переснять.
Я с трудом опустился на скамейку у аппарата, потом поднялся, добрёл до лавочки, стоящей у стены при входе, сел и стал пытаться натянуть на себя треники, но рентген-аппарат, пол, стены, потолок поплыли куда-то влево.
Очнулся я полусидящим в своей постели в коридоре, вокруг меня суетились врачиха с лицом цвета той дряни, что вливала мне в ноздри, заведующая, слушающая с растерянным видом, что ей взлаивал прямо в ухо здоровенный красномордый мужик в белом халате, медсестра и пара врачей, стоящих поодаль. Меня о чём-то расспрашивали, но я то ли не слышал, то ли не мог сосредоточиться – никак не мог вникнуть, что они от меня хотели. Решил просто отдохнуть, откинулся на подушки, но заснуть не мог – мне катастрофически не хватало воздуха, поэтому дышал так, будто я бегу как угорелый, сидя на кровати. Горло пересыхало, хотелось пить, хорошо, что рядом со мной оставили дежурить нянечку, которая, после того как я осушил третий или четвёртый стакан, наполнять который она каждый раз бегала в сортир, просто принесла мне графин из кабинета заведующей. Непростым оказалось и посещение мест общего пользования, я задыхался на каждом шагу, ноги тряслись, шёл, опираясь о стенку, проблемой были дверные проёмы палат – не на что опереться. Заснул к утру.
Утром врачиха излучала оптимизм:
– Ну вот, совсем другое дело, а то вчера смотреть не хотелось. Как откашливание, всё нормально отходит?
– Нет у меня кашля, ничего не отходит.
– Как ничего не отходит? Этого не может быть.
– Дышать не могу, шаг без опоры сделать не могу, слабость дикая, а кашля нет.
Оптимизм соискателя степени кандидата медицинских наук пропал, она куда-то смылилась, появилась минут через пять с заведующей, слушали меня, щупали, нимфоманки хреновы, хотели тащить снова на рентген, я отказался, заявив, что я и так ночью коридор освещаю, решили поить отхаркивающими препаратами. Пил, кашлял, но ничего не откашливалось.
Вечером зашёл пьяный санитар, повеселил, сказал:
– Вот же суки, из здоровых людей инвалидов делают, кспериментаторы хреновы. Хочешь, я им аппарат рентгеновский расхерачу?
Отговорил, посмеялись.
Проканителившись ещё дня три, решили выписать меня от греха – кто знает, что со мной дальше будет, дам дуба – и что тогда делать? Кто труп-то потащит в морг? Врачиха сообщила, что я здоров, а всё со мной произошедшее – это так, мелкие пустяки. Мне её оптимизм как-то пришёлся не по душе, помнится, она так же щебетала, когда заливала в меня этот бетон, который не давал мне дышать нормально, но что сделаешь, и я пошёл собираться домой, подошла завотделением, сообщила:
– Контраст, который у Вас бронхах, должен рассосаться, выйти, но Вы в ближайшее время постарайтесь физически поменьше нагружаться. Если хотите, у нас койка в двухместной палате освободилась, можем Вас оставить на недельку, витаминчики поколем.
– Слуга покорный, как-нибудь в другой раз.
По приезду домой понял, что работать я не в силах, пошёл в поликлинику и оформил больничный, в институт на учёбу стал ходить через неделю.
Мама подробно расспросила меня о произошедшем.
Что написали мне в заключении, не знаю, но через месяц – полтора после моего возвращения из больницы меня вызвали в военкомат, где выдали военный билет, в котором было указано, что я в мирное время не пригоден к строевой службе. Забавно, но в возрасте лет тридцати мне военкоматская комиссия без всяких обследований поменяла категорию на «годен» и призвали на военные сборы, но это уже другая история.
Много лет спустя моя мама рассказала мне, что на следующий день после моего возвращения она взяла в поликлинике мою историю болезни, поехала в больницу и беседовала с заведующей отделения, где меня исследовали на предмет моей службы в армии. У них состоялся такой разговор:
– Здравствуйте, я мать Рейн Алека, который у Вас проходил обследование, я медицинский работник.
– Здравствуйте, как Ваш сын? Контраст отходит с мокротой?
– Да ничего не отходит, он в таком состоянии явился после обследования – хоть снова на лечение отправляй, его полгода Гриншпунь лечила от бронхоэктатической болезни, вот его история болезни, а сейчас он ещё хуже. Что с ним произошло?
Заведующая полистала мою историю болезни.
– Так ему Вера Григорьевна диагноз поставила, она у нас в первом меде читала курс по лёгочным заболеваниям. А сын Ваш прошёл стандартное обследование, которое мы производим при подозрении на бронхоэктатическое заболевание, мы с таким диагнозом всем такое обследование делаем.
– И что, у вас обычно после исследований люди падают без сознания, задыхаются, пройдя три шага?
– Да тут такая история произошла, бронхографию проводила аспирантка, она недавно у нас, видно, переборщила с количеством контраста и, как я понимаю, немного напутала с процедурой проведения – моя вина, я недоглядела. Вы не волнуйтесь, неделя, ну, две – всё выйдет и будет в норме.
– Ну как не волноваться, до начала обследования он был более-менее здоров, а в результате Ваших процедур – уже нет. Вы понимаете, что, если с ним что-нибудь случится, ответственность будет лежать на враче вашего отделения, который проводил исследования, и на Вас? А ему служить придётся, и как он, по-вашему, сможет это делать?
Заведующая встала из-за стола и произнесла:
– Ваш сын к службе в армии, по моему мнению, в настоящий момент непригоден. Давайте не будем искать виновного. Заключение подписываю я. Контраст, который у него бронхах, со временем уйдёт, но Вы, если у Вас есть такая возможность, следите за тем, чтобы в ближайшее время он избегал быстрой ходьбы и физических нагрузок. Извините, что так произошло.
Вот так я и не попал в советскую армию.
Из-за этого грёбаного контраста я лет десять начинал задыхаться и кашлять, попав в любое запылённое или задымлённое пространство, первые два года я и ходить-то быстрым шагом не мог.
Появившись на работе, я стал в свободное время активно делать домашнее задание по математике – отстал немного в институте, расположился прямо на рабочем месте, решал какие-то задачки. Поскольку мимо моего стола Паша – так мы заглазно звали нашего начальника – шастал постоянно, то не узреть мою наглетуру было невозможно. Остановившись, он с недоумением поинтересовался:
– А чем это ты занимаешься?
– Домашнее задание по матанализу, отстал немного из-за проверки военкоматской.
– А работу твою кто будет делать?
– А я всё сделал.
Норма выработки конструктора рассчитывалась исходя из типа штампа, сложности, габаритов и так далее, но упрощённо, на глаз прикидывали так – около семи листов машиностроительной графики в месяц. При условии выполнения плана с минимальным перевыполнением полагалась премия к зарплате в размере тридцати процентов, план выполняли все и всегда, но никто и никогда особенно не высовывался со своим перевыполнением, и я бы не гоношился, просто ДЗ надо было срочно сделать.
– Сегодня семнадцатое, а ты всё сделал.
– Да, всё сделал.
Не удовлетворившись моим ответом, начальник отправился к Борису Петровичу за выяснением того, как это я умудрился к середине месяца план смастырить.
Борис Петрович всё подтвердил, и действительно, через год, освоившись более-менее в профессии, я выдавал в месяц десять-двенадцать листов машиностроительной графики. Конечно, и ошибок хватало, и Борис Петрович помогал в правильном выборе технологии штамповки – как правило, технологический процесс, за редким исключением, разрабатывал конструктор оснастки, но, когда все технологические нюансы были ясны, я клепал чертежи как автомат. Где-то через год Борис Петрович загрипповал и в группе был завал с планом, я пять дней выдавал по четыре листа в день. Штампы были однотипные и простые как башмак, тем не менее публика визжала.
А в тот день Пал Иваныч, разузнав, что план я уже закончил, подошёл ко мне и сказал:
– Ну, всё равно, нельзя же так сидеть и у всех на глазах своими делами заниматься.
– Пал Иваныч, что ж мне, сидеть и в стенку глядеть? Я ж с ума сойду.
Пал Иваныч вздохнул.
– Ладно, но ты давай как-то незаметненько, не привлекая внимания.
На том и порешили.
***
Михрютка наш нас узнавал, агукал, смеялся, прудонил и какался, как положено, всё шло своим чередом. Памперсов в те годы не было, обходились марлевыми подгузниками, кои надо было менять в сутки раз тридцать, стирать, кипятить, сушить. Денег у нас на стиральную машину не было, Людмила стирала всё на стиральной доске, во многих семьях было тогда такое устройство, представляющее собой стальной гофрированный оцинкованный лист в деревянной раме, которое под наклоном устанавливали в тазу, наполненном горячей мыльной водой, и тёрли бельё поперёк гофр – то ещё удовольствие. Крупное бельё кипятили в огромных баках. Уставала она так, что когда ложилась в постель, то засыпала на лету, ещё до того, как голова её касалась подушки. Единственное, что она не могла делать, – это вытряхивать Мишкины какашки из подгузников и стирать их, её элементарно рвало, и эту обязанность я взял на себя. Вечером, приходя после занятий, ужинал, потом брал таз с подгузниками, шёл в уборную, вытряхивал продукты его жизнедеятельности в унитаз, в ванной под сильной струёй воды споласкивал их, потом стирал и полоскал два раза с мылом, после чего они отправлялись на кипячение. Всё это занимало у меня полчаса, увы, моя помощь была чрезвычайно мала. Где-то до полугода решили отдать сердечко наше в ясли, нашли таковые не очень близко от нас, но недалеко от тёщи, Людмила решила, что, поскольку директриса – женщина, идти надо мне. Пошёл, поговорили, договорились за пять минут – руководитель яслей-сада сообщила, что они создают свою библиотеку для сотрудников, и если мы готовы пожертвовать в неё пару приличных книжек, то наш малыш тут же будет принят. Warum nicht, Маргарита Павловна, я приволок толстенный том Новикова-Прибоя и вторую, не помню автора, но тоже толстую и в хорошем состоянии – как я понял, заведующую интересовал прежде всего внешний вид книги, и Мишаньку приняли в ясли.
Катька с Георгием и дочкой прилетели в отпуск из Японии, житьё вшестером было некомфортно, Мишка по ночам беспокоил всех, и мы перебрались к тёще с тестем, им как раз с полгода назад отдали комнату соседей. Тёща, подавая заявление на увеличение жилплощади, предоставила справку о том, что старшая её дочь беременна, что являлось серьёзным аргументом для жилищной комиссии райисполкома, которая принимала решение, дать или не дать освободившееся жильё в те годы.
Людмила устроилась на новую работу с приличным окладом, казалось, что жизнь наша стала налаживаться. Но казалось так не всем, первым забастовал Миха, он категорически не понимал, почему его каждый день извлекают из тёплых любящих рук и отдают каким-то бездушным тёткам. Однажды у меня появилась возможность занести его в ясли, когда я передавал его няньке, он закричал так, что у меня появилось ощущение, что сердце оборвётся. А уж когда Милкина сестра, которая пару раз заносила Миньку в ясли перед школой, заявила, что больше не пойдёт туда никогда, потому что если у нас нет сердца, то пусть мы сами и мучаемся, что племяш её любимый начинает рыдать, только почувствовав ненавистное ему здание, давая ей понять, что он понимает, что его предают все близкие из его окружения, а она не хочет, чтобы, когда он вырастет, он считал её такой же предательницей, какими являемся все мы.
На работе я поделился насчёт нашей беды с Сашкой Ефановым, у него была та же проблема, Санёк сказал:
– Ты понимаешь, главное в том, что не объяснишь ему ничего – совсем маленький, мы решили с женой – хрен с ними, с деньгами, здоровье сына дороже, до трёх лет потерпим, года в три с ним можно будет уже говорить, вот тогда и побеседуем – он, я думаю, поймёт.







