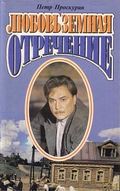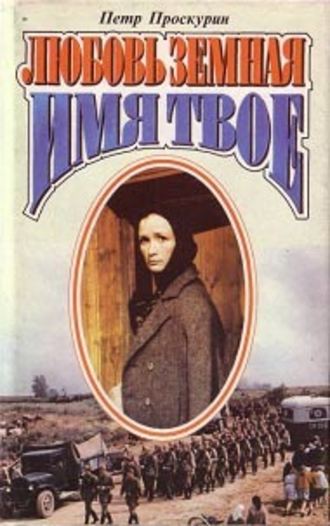
Петр Лукич Проскурин
Имя твое
– Дядька Захар, – тревожно спросил Михайла, – ты что?
– Ничего, Михайла, – отозвался он глухо. – Проскочило…
– А я даже испугался, – обрадовался Михайла. – Стоишь, вроде столбом закаменел. Что, дядька Захар, сердце, что ль, зашлось?
– Оно самое, видать, будь ты неладно, – признался Захар. – Ходишь-ходишь, вроде ничего, а потом и хватает, окаянное. Враз тебя стиснет, хоть караул кричи.
– Ну, пойдем, дядька Захар, пойдем. Хоть отдохнешь маленько с дороги-то, – заторопился Михайла. – Чую, недолго тебе тут быть, повлекут тебя ввысь…
– Какая там высь? – недовольно глянул на него Захар. – Пошли…
– Давай, мешок поднесу…
– Не мельтеши, Михайла, сам справлюсь, не умираю пока…
Михайла привел гостя в дом, прямо к накрытому уже столу, и вся семья, двое детей, белоголовый мальчик лет тринадцати и девочка лет десяти с прозрачными, смешливыми глазами, сама хозяйка, молодая полноватая баба, дожидались ужина; Захара повели за ситцевую занавеску вымыть руки, затем с оживлением усадили в переднем углу; в другой комнате вовсю трудился телевизор, и Михайла послал сына уменьшить звук; тот быстро вернулся на свое место и стал быстро есть, все время украдкой поглядывая на Захара.
Михайла налил в стаканы водки, гостю, себе и жене, придвинул поближе закуску – соленые рыжики, разваренную курятину, холодец.
– Ну, дядька Захар, с великим тебя праздником! – сказал, высоко подняв стакан, Михайла. – Кто бы мог надумать, твой сын Колька под самые звезды взметнулся! Только во сне и может приблазниться! Про фамилию Дерюгиных весь мир узнал!
– Выпьем, Михайла, ладно, – согласился Захар. – Сегодня и вправду особый, видать, день… Будьте здоровы…
– Страсть, высь-то какая, – хозяйка хотела перекреститься, но Михайла строго поглядел на нее, и она опустила руку.
– То-то и оно, – сказал Михайла, и все, помедлив, выпили. Захар вытер усы тыльной стороной ладони, взял кусочек хлеба, отломил, густо посыпая солью и бросил в рот; в тот же момент под окнами послышалось тарахтение мотоцикла, и скоро в дом вошли двое; хозяин поднялся им навстречу.
– Здравствуйте, Емельян Петрович. Проходите, как раз к ужину, – радушно приглашал он. – Хозяйка…
– Спасибо, – отозвался мужчина пониже, останавливая Михаилу, – рассиживаться недосуг, мы вот с товарищем из района к твоему гостю. Здравствуйте, Захар Тарасович.
– Коли не шутите, здорово, – приподнялся Захар. – Что за пожар-то приключился? Летают они там, ладно, сколько их уже вертелось в небе? Хлеб-то все равно с земли, кроме взять его негде. Летают, летают… а как умирать, все равно сюда, в землю, ложиться… На земле просторно…
– Вероятно, Захар Тарасович, и так можно повернуть, – внимательно глянул на него секретарь райкома, – да ведь жизнь не остановить. Такой уж у нас с вами век выпал. Необходимо, Захар Тарасович, срочно доставить вас домой, понимаете…
– Не очень-то понимаю… Что все-таки стряслось? Николай летает, а мы со старухой при чем?
– Вы, Захар Тарасович, со своей супругой должны быть, так сказать, в боевой готовности номер один. Я секретарь райкома партии, Головин Трофим Васильевич, – представился говоривший. – Вот мне и приказано обеспечить выполнение этой операции, тут не отвертишься… Вас с супругой в любой момент могут вызвать в Москву, встречать сына, это ведь правительственное распоряжение…
Головин видел Захара впервые и не мог понять, почему этот старик недоволен и хмурится; он озадачился окончательно, когда Захар наотрез, сердито кося глазами, отказался вообще куда-либо ехать.
– То есть как не поедете? – переспросил он даже с некоторым недоверием. – Ну-ка, ну-ка, объясните, пожалуйста…
– Объяснять ничего не стану. – Захар кашлянул в кулак. – Не поеду – и все. Я с какой стороны приклеюсь-то? Чего это меня, как в зверинце, показывать будут?
– Простите, но вы же отец! – Головин, не дождавшись ответа от хмурого Захара, достал пачку «Беломорканала», закурил и, расстегнув полы пальто, присел на лавку. – Давайте серьезно поговорим, Захар Тарасович, – сказал он ровным и спокойным голосом. – Разумеется, я не могу вас заставить силой, но хочу понять, в чем, собственно, дело? Вы что, не в ладах с сыном? Или у вас есть какие-то свои особые причины?
– Никаких причин у меня нет, – пожал плечами Захар. – А рассудить тут надо просто: сын летает где-то там, возле боженьки, а я чего с ним рядом торчать буду? Подумаешь, отец… отцовство, оно дело нехитрое, всякий, как в штаны подлиннее влез, гляди, уже и отец…
– Подождите, Захар Тарасович, – остановил его секретарь райкома. – Но это же ни в какие рамки не укладывается. Общенародное дело, престиж государства, понимаете? Правительственное распоряжение… Это же какая гордость, наш земляк, русский человек… и ваш сын, Захар Тарасович! К солнцу взлетел…
– А правительство имеет право распоряжаться мной только по закону, товарищ секретарь, – настойчивость секретаря начинала сильно раздражать Захара, но он тем более укреплялся в своей мысли, что никуда ему ехать не надо; искоса взглянув на Головина и видя его какую-то обидчивую растерянность и даже что-то злое в лице, Захар почувствовал неловкость. Пожалуй, эа самого себя ему было нечего бояться, подумал он, а вот Николаю, может, придется и поморгать, кто знает, что там у них за порядки… – Вот черт, – проворчал Захар, насупливаясь, – А как же я домой-то в эту расхлябь доберусь? Речки развезло, в низинах теперь вода стоит…
– У нас, Захар Тарасович, абсолютно все продумано, – обрадовался секретарь райкома. – Вот-вот вертолет из Холмска будет. Тридцать минут, и все в порядке. Нет, просто удивительно! – теперь уже окончательно развеселился секретарь райкома. – Увидеть сына сразу после такого дела! А, Захар Тарасович?
– Не поймешь ты, секретарь, – вздохнул Захар. – Да ладно, я же согласен. Вертолет так вертолет.
– Отлично, отлично, зачем лишние слова, и я с вами согласен. – Головин, казалось, только теперь обратил внимание на стол, и Михайла торопливо достал два чистых стакана, расчистил для них место, налил водки и весело взглянул на гостей.
– Садитесь, садитесь, ну как, как же, – зачастил он. – Разве можно… Дело-то – какое снгабательное… Дядька Захар, проси!
– Просить не надо, – сказал Головин, шагнул к столу и взял стакан. – За это нельзя не выпить! Для всей страны праздник, пишут, совершенно особый полет, какое-то великое научное достижение, связанное с судьбой всего человечества! Бери, бери, Федотов! Мы же русские люди!
Все взяли стаканы и стоя, в торжественном молчании выпили, затем сели закусить; настороженность и какое-то необъяснимое упрямство у Захара прошло и настроение переменилось. Он даже не смог бы сейчас сказать, почему это упорствовал раньше и не хотел возвращаться; они еще выпили, и еще, и Захар всякий раз удивленно мотал головой и говорил:
– Надо же, Колька мой куда сиганул, а? Колька-то мой, а?
Ему сейчас казалось, что если и было в жизни что-то плохого, так это все было давно и словно с кем-нибудь другим и что самое главное происходит именно сейчас. И от этой остроты он никак не мог захмелеть; прибыл и опустился к удовольствию мгновенно сбежавшихся со всего села ребятишек вертолет, широкими лыжами встал прямо на твердый, слежавшийся снег на огороде Михайлы. Захар быстро оделся и в сопровождении Головина, председателя колхоза и всей семьи Михайлы вышел из дому. Вокруг, обламывая изгородь, уже собралось много и мужиков, и баб, и старух, все уже знали, в чем дело, и на Захара, вышагивающего в своем коротком полушубке впереди всех, глядели с любопытством и уважением.
У самой машины Захар вспомнил, что забыл свой плотничий инструмент; Михайла послал за ним сына, и тот быстро обернулся туда-обратно, прибежал раскрасневшийся, подал Захару ящик.
– Спасибо, Гришуня! – Захар потрепал парня по плечу. – Спасибо, а то без инструмента как без рук… Ну, прощайте все! – сказал он, слегка хмурясь от всеобщего внимания. – Я уж потом, Михайла, как-нибудь к тебе заверну, ничего не попишешь, подвел нас родственничек.
Захар усмехнулся, подал ящик с инструментом пилоту в дверях вертолета; Михайла, оказавшийся рядом с ним, сунул в карман ему что-то тяжелое, полу сразу оттянуло, догадываясь, Захар одобрительно покосился на родственника.
– Фляжка, дядька Захар, – понизил Михайла голос – Еще с войны, трофейная, гляди, дурно вверху станет, и пригодится.
Захар молча пожал ему руку и полез в вертолет; пилот с круглым оживленным лицом захлопнул дверцу и указал Захару на продолговатое и узкое сиденье вдоль стены.
– Устраивайтесь, папаша.
Захар сел, слегка повернувшись, стал глядеть в маленькое толстое и круглое окошко. Корпус машины мелко задрожал, с ребятишек неподалеку, словно листья, послетали фуражки; Захар от этого тарарама озорно подмигнул в толстое стекло, Михайла с другой стороны помахал ему рукой, а какая-то старуха рядом с ним, заслоняясь от поднявшегося ветра, истово несколько раз перекрестилась. Затем машина дрогнула и оторвалась от снега, после секундной заминки косо и стремительно понеслась внизу земля, неловко замелькали люди с задранными головами, голые деревья, дома, холодно сверкнула взбухшая зеленоватой синью лента реки, и пошел лес. Захар оторвался от окошечка. Это был санитарный вертолет; Захар увидел напротив свернутые и прихваченные застегивающимися кольцами к стене носилки. Дверь из кабины приоткрылась, показалась голова пилота.
– Ну, как? – угадал Захар по его губам и молча показал большой палец; пилот снисходительно, но вежливо кивнул и скрылся, Захар опять остался один. Он нахохлился, уставился в одну точку перед собой: все, что произошло с ним за последний час, случилось помимо его воли; ну вот, привезут его, подумал он, поставят на трибуну (Захар уже видел это однажды в кино), и будет он дурак дураком, потому что ни с какого боку он к этому делу не причастен. Сын… так что сын? Эко диво…
Захар достал флягу, отвинтил ее и сделал прямо из горлышка пару крупных глотков; молодец Михайла, одобрил он, мужик с соображением, сразу и полегчало внутри.
Подождав и крупно хлебнув еще раз, Захар завинтил колпачок и сунул заметно полегчавшую посудину в карман полушубка. Он не понимал, что это было за враждебное чувство, не дающее ему покоя и мешавшее спокойно ждать и радоваться, но, как это и бывает иногда в острые моменты, тут же определилось и окончательное решение. Никуда он дальше Густищ не поедет – и точка, а что в груди свербит, так это от другого. И правильно, даже с сыновьего стола ему крох не надо, ничего не надо, кроме своего, что заработал, то и есть, а так что же он будет стоять, у сына за спину жаться, вот, глядите, и я тут, и я вместе… Обойдутся без его личности, Ефросинья как хочет, а он не поедет… вот так… Еще не хватало, повернешься там не туда или что невпопад брякнешь…
Успокаиваясь окончательно, Захар достал флягу, отвинтил и хорошенько глотнул, по горлу прокатился приятный, теплый комок вниз… вниз… а-ах, вот так!
Захар крякнул от удовольствия, повеселел и удивился еще более, что ему нужно куда-то ехать и что то делать.
Ну-ну, сказал он, так я вам и поеду. Черта с два, у меня свои дела есть. Летает Колька, ну и пусть, а я сейчас из этой машины выпрыгну, только вы меня и увидите, у меня вон еще кроме Кольки Илюшка есть, в каждом письме зовет к себе в Свердловск, внуков поглядеть, а там и этот… Василий пишет… тоже после армии в городе пристроился, недавно женился… Я что, я свое оттрубил, что мне в каждую щель соваться?
Поискав глазами ящик с инструментом, он придвинул его к себе; в два глотка допив оставшуюся водку, Захар аккуратно завинтил колпачок и, напоследок внимательно оглядев пустую флягу, подумал, что немцы все-таки мастеровитый народ, удобные и крепкие на износ вещи умеют делать, и что надо не забыть вернуть ее Михайле. Ха, немцы, сказал он затем, эти все умеют, у них зря любая малость не пропадет, не то что наши дураки…
Поворчав еще несколько, Захар совсем возмутился, и его охватило желание выйти из этого узкого, грохочущего ящика; подхватив свой инструмент, он встал; было легко и свободно, ощущение высоты и полета ему нравилось; он стал отыскивать дверь, чтобы окончательно освободиться, и ему показалось, что он отыскал ее. Он долго дергал какие-то рычажки, но ничего сделать не мог и начал злиться, поняв, что запутался; оглянувшись, он увидел внимательно наблюдавшего за ним второго пилота. Захар шагнул к нему и, стараясь говорить громко, попросил:
– Слушай парень, ты мне дверь открой, а?
– Что? – с веселым изумлением переспросил летчик, уловив в дыхании Захара сильный водочный перегар.
– Дверь, говорю, выйти хочу.
– В туалет, что ли? Так вон он, в хвосте. Помочь?
– Да нет, совсем выйти, – сказал Захар, и в глазах у летчика загорелись смешливые огоньки.
– Погоди, папаша, – стал уговаривать он, – куда ты сейчас выйдешь, дикий лес кругом. Давай покурим, папаша, – предложил он, присаживаясь и щелкая портсигаром. – Немного осталось, через пять минут село, вот и выйдешь, а так, что в лесу делать?
– Лес-то что, – проворчал Захар, устраиваясь рядом с ним и закуривая, – лес нам нипочем. – Он зорко и строго посмотрел на летчика. – Молодой ты, леса боишься… а самый страх в другом, среди людей заблудиться, вот где страх… А лес что, лес он стоит себе и стоит…
– Ну вот, – сказал летчик, когда вертолет резко пошел. на снижение. – Сейчас тебя и высадим чин чином, прямо в селе, на площади…
Захар поглядел в окошечко, удивился.
– Э-э, так это же вроде Густищи, – недоверчиво сказвал он.
– Они самые, – засмеялся летчик. – Точно по заданию доставили тебя, папаша, в село Густищи, Зежского района. Ты, папаша, шебутной, видать, молодым был. Норов в тебе чувствуется…
– Всяким был, сынок, – кивнул Захар без обиды, – на то она и жизнь… по-разному ее попробовать…
Он опустился по лесенке из кабины, летчик подал ему ящик с инструментом, и Захар, поблагодарив, сощурился на подходивший торопливо народ.
– А в лесу-то было бы лучше, – пробормотал он. – Простор тебе, пока снег белый держится…
Он опять заблестевшим взглядом окинул толпу, радостно зашумевшую ему, навстречу; от долгого недавнего грохота в голове еще стоял гул, и он плохо разбирал слова; Захар увидел лицо Ефросиньи, оно все приближалось и приближалось к нему, оно словно плыло поверх всего остального, он видел только это странное, как-то одновременно испуганное и оживленное лицо; Ефросинья оказалась прямо перед ним, перед самыми его глазами, она вопросительно глядела на него, и он понял, что она не в силах расцепить губ.
– Что, собираться будем, а, мать?
Ефросинья молча кивнула, и ему показалось, что вот-вот и ее не станет, и она исчезнет, и наедине с этой безликой и безглазой громадой людей разомкнутся последние связи; взяв Ефросинью за плечи, он притянул ее к себе, и она стала рядом с ним лицом к толпе.
Она была в новом платке, в привезенных Николаем теплых, хороших сапогах, и Захар своей натруженной ладонью пытался поддержать ее в материнской слабости, как бы бессознательно стараясь прибавить ей сил, не хватавших для ожидания.
– Значит, вскинуло Кольку-то к самому небу, – сказал он тихо. – Взлетел и… Пора, мать, пошли, что ж, бывает, и так вот случается, надо собираться, ничего не попишешь…
Они шли рядом по селу, и под их ногами сочно хлюпала растворившаяся от жадного весеннего тепла земля; Захар глядел прямо перед собой, куда-то вдаль, в синевшее пространство неба.
11
Перебравшись из кабины корабля во второй отсек, в космическую лабораторию (она должна была потом остаться на орбите), Николай со своим ассистентом Билибиным за двое суток установил и настроил приборы. И Николай, и Билибин работали в спокойном, строгом ритме; в тесном помещении лаборатории, его самом дорогом детище, все пространство, кроме узкого, неудобного прохода, заполняли приемные и передающие устройства – воплощение человеческой мысли и гения. Николай был сейчас заключен в хрупкую скорлупу по сравнению с бушующими вокруг него безмерными силами космоса, его всепоглощающей тьмой, и был на огромном удалении от привычной, родной земли; занятый работой и стоящими перед ним задачами, он не ощущал этого, и только время от времени голос командира корабля напоминал Николаю, где он находится и что к ето состоянию прислушивается весь мир, что об этом регулярно сообщает радио во всех уголках земли и что к нему устремлена сейчас творческая энергия человечества, именно с выходом за пределы привычных, часто примитивных представлений о материи и Вселенной начинавшего все неотвратимее осознавать свое неделимое единство, свою взаимозависимость перед всесокрушающим, безжалостным дыханием бесконечного космоса. Николай с Билибиным работали вначале строго в ритме графика, и когда все было сделано, Билибин, чтобы не мешать, перебрался в кабину, а Николай еще раз все тщательно просмотрел и прощупал. Он остался доволен и решил, что теперь можно переходить к следующему этапу. Наступал самый напряженный, полный ожидания момент, и он невольно медлил; приборы должны были работать в условиях космического холода, и кто знает, какие новые свойства при этом обнаружатся… Он помедлил, оглядывая свое хозяйство, и почувствовал облегчение, через двое суток приборы и устройства войдут в заданный режим, и затем он еще раз должен отрегулировать их и заложить еще одну, основную группу опытов с мощными сверхпроводящими магнитами по передаче энергии на расстояние, но об этом сейчас рано было думать, да и усталость давала себя знать…
Он сообщил, что у него все готово, и скоро уже был в своем кресле, рядом с Билибиным; Касьянов, напоминавший в плотно облегающем тело костюме и в шлемофоне какое-то внеземное, более совершенное существо, коротким кивком поздравил его.
– Спасибо, Сережа, – отозвался Николай и остановился взглядом на приборном щитке перед собой, соединяющем его с лабораторией. – Ну, господи благослови, как сказала бы Ефросинья Павловна, – пробормотал он и легким нажатием нужной кнопки разгерметизировал лабораторию. Корабль почти никак не отозвался на это, но все трое уловили почти неощутимый посторонний толчок. Несколько минут прошло в молчании; регистрирующие устройства на щитке перед Николаем начали оживать; Николаю, напряженно следившему за ними, казалось, что это не приемные устройства все глубже и глубже проникают в безмерность космоса, выуживая из него пока необъяснимые сигналы, сведения, а что это он сам, с каждым мгновением отдаляясь от корабля на громадное расстояние, |вбирает в себя немыслимое многообразие вечно живого космоса, и оно, это многообразие, с каждой секундой усиливающееся, цепенило его. Николай устало прикрыл глаза.
– Алеша, – попросил он немного погодя Билибина, – сообщи в центр, что мы приступили к первой серии опытов. Bсe идет в установленных программой пределах. Не исключена возможность получения самых неожиданных данных…
– Связь через десять минут, – сказал Балибин. – Тебе, Николай Захарович, надо спать.
Николай, совершенно не чувствуя тела, недовольно заворочался, устраиваясь удобнее, затем потуже затянул привязные ремни и, несмотря на непрерывный, привычный шум от работающих приборов и оборудования корабля, думая, почти физически ощущая беспредельную тишину космоса, закрыл глаза, по-прежнему находясь еще там, в неизведанных просторах, откуда приборы втягивали теперь в себя и регистрировали невероятное количество информация. Легкая, туманящая дрема тихо вкрадывалась в сознание, но он, прежде чем окончательно заснуть, успел еще вспомнить одно из очень узких, специальных заседаний в Академии наук, лицо одного из своих оппонентов…
«Почему в космос? – недоуменно спрашивал, сам любуясь своим недоумением, один из академиков. – На земле, коллега, непочатая бездна работы. Почему сейчас всем подавай космос? Не лучше ли построить еще один город?»
«Земля и космос – единое целое, – холодно, тоже расчетливо, не скрывая своего удивления, отвечает Николай. – Законы космоса и законы земли едины. Их нужно знать, чтобы предвидеть будущее нашей с вами земли, чтобы невольно не толкнуть ее в какую-нибудь глобальную катастрофу. Выход в открытый космос дает нам возможность познать общие законы материи и пространства, то есть законы мирового космоса, во много раз быстрее и глубже… Тот же практический смысл здесь для человечества ни с чем другим не сравним… Кроме того, космос уже сейчас начал давать пользу для земли, от сверхдальнего телевидения до изучения природных ресурсов Земли, до прогнозов погоды, и это вам известно».
Ответа он уже не слышал, раздраженное и по-прежнему недоумевающее лицо академика, размазываясь, поплыло куда-то назад и вбок, и, через несколько часов проснувшись, он понял, что что то случилось. Он открыл глаза: корабль, а вместе с ним и люди совершали еще один виток среди звезд, он повел глазами, в тусклом освещении слабо светились знакомые приборы и передатчики, но он понял, что то, что случилось, случилось в нем самом. Он хорошо отдохнул, чувствовал себя свежо и бодро; он подумал, что нужно еще раз все тщательно продумать. Тела не чувствовалось совершенно, это было ни с чем ве сравнимое состояние, чем-то напоминающее сны детства, захватывающее, свободное, бестелесное парение над землей, сладкое, стремительное замирание сердца; Николай подумал о бесконечности знания, о том, что человеку никогда не суждено победить первооснову самого себя, и вот эта блестящая, всепоглощающая бездна под обозначением космос, в которую уже канули миллионы земных поколений, всегда будет перед человеком, как таинственный черный ящик, и человек никогда не сможет постигнуть его до конца. Да и зачем? Зачем? Вероятно, это и есть великая радость жизни – в упорном стремлении бесконечно пробиваться к бесконечной истине; вот он, Николай Дерюгин, а с ним и еще многие миллионы пытаются совершить свой прыжок в этой космической ночи, а там придет следующий; зачем, зачем? – опять спросил он себя; было строго очерченное пространство, и были взлеты богов, были титаны и сказки, и все в один момент смешалось и рухнуло; человек с небес, где его бросало бурями из стороны в сторону, опустился на твердую, безупречную реальность, и начался прямой рабочий путь и отсчет; крупица за крупицей прогрызать свой ход в устрашающей громаде опыта и не отчаиваться, возможно, именно в этом и был свой, скрытый смысл?
Усилием воли, он попытался сосредоточиться на другом, на том необходимом, что нужно было во что бы то ни стало выполнить; и тотчас загудел знакомый голос командира корабля.
– Коля… Коля… проснулся?
– Да, отоспался за все время… Как дела, Сергей
– Провел несколько сеансов… передают, что все хорошо, все живы-здоровы. Тебе от жены и родных приветы.
– Спасибо… Как себя чувствуешь, Сергей?
– Отлично…
– Алексей отдыхает?
– Только что заснул, все с вашим ящиком в должном порядке.
– Слушай, Николай Захарович, – командир корабля, когда речь заходила о более серьезных делах, называл Николая только по имени-отчеству, – центр наметил коррективы орбиты сразу после вашей готовности ко второй серии.
– Хорошо. Как-то даже странно, – оживился Николай, – все идет так буднично. А дело-то какое, даже самому себе иногда не верится. Конечно, затраты огромные… Неудача просто невозможна… Я тогда тут же попрошу тебя вышвырнуть меня за борт. Ведь недостаток энергии уже налицо, еще несколько десятков лет, и человечество начнет задыхаться… Наука должна освоить принципиально новые источники энергии. Мы всего лишь пионеры, но наступит время, и люди будут перебрасывать любые потоки энергии на любые расстояния. И всего лишь направленный электромагнитный пучок —ведь в самом деле здорово, а? Допустим, берем энергию Сибири и тотчас передаем ее в Европейскую часть Союза. В принципе, примерно такой же спутник, на котором сейчас основана система телевидения. Или полученную в космосе от солнца энергию на землю. Вопрос передачи энергии без проводов, а значит, во многом энергетический вопрос, товарищ командир корабля, решится навсегда. Мы сейчас у истоков действительно гигантских проблем. В честь Королева человечество должно сложить гимн и исполнять его каждое утро на всей планете. Наука идет к этому разными путями, мой конек – криогеника…
– Я, Николай Захарович, – улыбнулся командир корабля, – перед полетом штудировал твою книгу по криогенике. Довольно упорно…
– Ну и как, Сережа?
Командир корабля засмеялся, слегка поднял руки.
– Понятно. Вообще-то твердый орешек… Ведь в мире, Сережа, в самом деле все относительно, кроме сверхпроводимости. Это свойство открыто почти семьдесят лет назад, а только сейчас практическое его применение встало на повестку дня – Николай скользнул взглядом по приборной доске, потрогал подбородок, щеки и подумал, что надо обязательно побриться.
Обменявшись еще двумя-тремя словами, они занялись каждый своим делом, завтраком, туалетом, подготовкой к продолжению запланированных наблюдений; Николай шире раздвинул створки иллюминатора, у него слегка дрогнуло сердце, хотя он и не увидел ничего неожиданного. Просто где-то в необозримой дали под ним плыла голубоватая земля, а вокруг было залитое серовато-золотистым сиянием пространство.
– Все в порядке? – раздался спокойный голос командира корабля.
– Да, начинаю измерения, – ответил Николай, продолжая осмотр, и подумал, что они сейчас, три человека, словно связаны одним током крови, одной нервной системой, и стали одним целым, одним нерасторжимым существом, и Николай еще подумал, что именно этим и сильны люди. – Ты знаешь, Сергей, что такое счастье? – спросил он, отрываясь от приборов. – Ощутить вечность, Сережка!
– Добро, – отозвался командир корабля, и Николай, взглянув в иллюминатор, с каким-то почти болезненным наслаждением еще раз оглядел невероятный, поражающий мир. Корабль входил в тень, только по этому и можно было заметить движение, но вокруг еще расстилалось золотисто-огненное пространство, и чуть сбоку и внизу в алых отсветах полыхала атмосфера земли, и по привычным очертаниям, прорывающимся из-за неровных облачных скоплений, Николай угадывал где-то вдали Африку, и через несколько минут корабль вошел во тьму; смена произошла как-то незаметно, и Николай продолжал всматриваться в эту непроницаемую, вечную, вспыхивающую миллиардами эвезд вселенскую ночь. Как-то невольно, независимо от него, перед сияющим торжеством этой всеобъемлющей силы он вспомнил струящуюся зелень листвы старых берез за околицей Густищ, свечение их голубовато-белых стволов в яркий весенний день, вспомнил непередаваемую теплоту и щедрость живых красок земли и слегка прикрыл глаза Это была минута слабости, и он знал это, ему захотелось почувствовать лицом теплый ветер, несущий медвяные запахи луговых трав, увидеть Таню, и он представил ее, близкую, всегда неожиданную, и опять сердце сжалось от мысли, что все это будет неизбежно поглощено когда-нибудь вот этой безмерной и вечной мощью. Перед ней все было только мгновением, только слабой отраженной игрой, одним из бесчисленных вариантов этой захватывающей слепящей игры, вместе с проносящейся сейчас мимо Африкой и всеми земными океанами и материками, с их возникновением и историей, с непримиримыми тысячелетними борениями их народов и созданных ими богов и стремлений, и было единственное, что могло противостоять могуществу этой космической тьмы. Это была простая человеческая любовь, это была женщина, несущая в себе из заповедных, неведомых начал вечный свет жизни, слабая, хрупкая, таинственная и влекущая, бессильная и могущественная, потому что именно она была самым великим созданием этой космической тьмы, она вышла из ее недр, чтобы вдохнуть в нее божественную душу разума и чтобы в хаосе проступила, ожила и утвердилась красота и подвиг разума… И оттого, что он проник сейчас к каким-то самым неведомым пределам, у него наступило состояние недоумения, даже досады на себя; то, что он все время считал главным, все отступило, растворилось в звездной тьме, а пришло другое, надежное, теплое, простое, он лишь с каким-то запоздалым упреком к себе вспоминал в своей жизни такой-то и такой-то момент, когда он брал от жизни и отдавал ей всего лишь ничтожной частью возможного, и заверял кого-то, кого, он и сам не знал, что больше так не будет; он знал, что на землю вернется внутренне совершенно другим, зорче и богаче душою, и это его успокаивало.
* * *
За двое суток была подготовлена вторая, заключительная серия опытов, и Николай с Билибиным, загерметизировав лабораторию и дождавшись восстановления в ней необходимых условий, провели нужную регулировку ранее установленных систем и приемных устройств. Работали почти молча, потому что давно понимали друг друга без слов. Результаты самых разнообразных опытов были настолько богатыми и неожиданными, что их даже примерно невозможно было осмыслить без хотя бы предварительной обработки, и Николай был доволен; он и без этого отлично предвидел, какой резонанс вызовут многие добытые даже за короткий пока срок данные, но многие его идеи уже блестяще подтверждались, и мысль его работала дальше.
– Возвращайся в кабину, Алеша, – сказал он Билибину после того, как они подсоединили круглый магнит, помещенный в жидкий гелий со специальным устройством. – По моей команде дашь ток. Если надо будет, гелия добавлю сам, у нас его не так много.
– Сколько вы хотите закачать тока, Николай Захарович? – спросил Билибин, поворачивая к Николаю круглое, молодое лицо с внимательными, сразу еще более посерьезневшими глазами.
– До сотни тысяч ампер.
– Николай Захарович… я просил бы вас оставить меня…
– У нас нет времени на дискуссии, Алеша, Иди. Сергей не сможет разобраться, если потребуется, во всех тонкостях нашего дела.
– Я опытный лаборант, Николай Захарович, опытнее в этом отношении вас, вы это знаете.
– Ну, Алеша, – попросил Николай, – уступи на этот раз мне. Моя самая давняя мечта именно этот опыт… я хочу провести его с самого начала своими руками. Жар-птица еще моей молодости. Да ты же знаешь, дела мы с тобой проворачиваем и посерьезнее.
– Понимаю, – не сразу отозвался Билибин и, улыбнувшись своей мысли о том, что даже такой большой ученый, как Дерюгин, подвержен самой простой человеческой слабости, в то же время подумал, что на месте Дерюгина и сам он поступил бы точно так же, и скоро Николай остался один, и уже через полчаса по его команде дополнительный ток пошел в обмотку магнита, и у Николая, следившего за стрелкой амперметра, все спокойнее и увереннее становилось на душе.
– Шестьсот, семьсот, – говорил иногда он почти машинально, весь сосредоточенный сейчас на одном, и Билибин так же коротко и отрывисто подтверждал его слова; наконец Николай скомандовал «стоп!» и минуту или две отдыхал от напряжения.