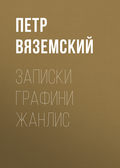Петр Вяземский
Воспоминание о Булгаковых
Вот еще отступление. Но, собственно для меня, тут отступления нет. Образ Булгакова сам собою так и вставляется в раму итальянской оперы. Как-будто вчера, сижу в креслах возле него: так и кажется мне, что он знакомит меня с особенностями итальянизмов музыки и либретто.
После Неаполя, едва ли не лучшее время жизни его было время его почтдиректорства. Тут был он также совершенно в своей стихии. Он получал письма, писал письма, отправлял письма: словом сказать, купался и плавал в письмах, как осетр в Оке. Московские барыни закидывали его любезными записочками с просьбой переслать прилагаемое письмо или выписать что-нибудь из Петербурга, или Парижа. Здесь кстати сказать, что гражданские порядки у нас как-то туго прививаются. Мы во многом держимся патриархальных и доисторических привычек. Многие любят у нас писать по «сей верной оказии» и уведомлять, что, по отпуске письма сего, они, благодаря Бога, живы и здоровы. Также равно есть у нас разряд Молчалиных, которые любят списывать стишки, уже давно напечатанные. Булгаков не даром долго жил в Неаполе и усвоил себе качества cavaliero servente и услужливого сичизбея. Теперь, за истечением многих законных давностей, можно признаться, без нарушения скромности, что он всегда, более или менее, был inamorato. Казенные интересы Почтового Ведомства могли немножко страдать от его любезностей; но за то почт-директор был любимец прекрасного пола.