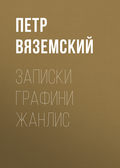Петр Вяземский
Воспоминание о Булгаковых
Собираясь говорить об одном брате, я разговорился о другом; но это не отступление, а, скорее, самое последовательное и логическое вводное предложение. Тем, которые были знакомы с обоими братьями и знали их тесную связь, оно не покажется неуместным.
Александр Яковлевич – уроженец Константинопольский и чуть не обыватель Семибашенного замка, в котором отец его довольно долго пробыл в заточении, – провел года молодости своей в Неаполе, состоя на службе при посланнике нашем Татищеве. Он носил отпечаток и места рождения своего и пребывания в Неаполе. По многому видно было, что солнце на утре жизни долго его пропекало. В нем были необыкновенные для нашего северного сложения живость и подвижность. Он вынес из Неаполя неаполитанский темперамент, который сохранился до глубокой старости и начал в нем остывать только года за два до кончины его, последовавшей на 82-м году его жизни. Игра лица, движения рук, комические ухватки и замашки, вся эта южная обстановка и представительность, были в нем как будто врожденными свойствами. От него так и несло шумом и движением Кияи и близостью Везувия. Он всегда, с жаром и даже умилением, мало свойственным его характеру, вспоминал о своем Неаполе и принадлежал ему каким-то родственным чувством. И немудрено! Там протекли лучшие годы его молодости. Молодость впечатлительна, а в старости мы признательны к ней и ею гордимся, как разорившийся богач прежним обилием своим, пышностью и роскошью. Он хорошо знал итальянский язык и литературу его. В разговоре своем любил он вмешивать итальянские прибаутки. Впрочем, вместе с этою заморскою и южною прививкой, он был настоящий, коренной Русский и по чувствам своим и по мнениям. От его сочувствий и сотрудничества не отказался-бы и современник его, наш приятель Сер. Ник. Глинка, Русский первого разбора, и основатель «Русского Вестника». И ум его имел настоящие русские свойства: он ловко умел подмечать и схватывать разные смешные стороны и выражения встречающихся лиц. Он мастерски рассказывал и передразнивал. Беседа с ним была часто живое театральное представление. Тут опять сливались и выпукло друг другу помогали две натуры: русская и итальянская. Часто потешались мы этими сценическими выходками. Разумеется, Жуковский сочувствовал им с особенным пристрастием и добродушным хохотом. Булгаков вынес из Италии еще другое свойство, которое также способствовало ему быть занимательным собеседником: он живо и глубоко проникнут был музыкальным чувством. Музыке он не обучался и, следовательно, не был музыкальным педантом. Любил Чимарозе и Моцарта, немецкую, итальянскую и даже французскую музыку, в хороших и первостепенных её представителях. Самоучкой, по слуху, по чутью, разыгрывал он на клавикордах целые оперы. Когда основалась итальянская опера в Москве предприятием и иждивением частных лиц – кн. Юсупова, кн. Юрия Владимировича Долгорукова, Степана Степановича Апраксина, кн. Дмитрия Владимировича Голицина и других любителей – Булгаков более всех насладился этим приобретением: оно переносило его в счастливые года молодости. Впрочем, имело оно, несомненно, изящное и полезное влияние и на все Московское общество. Часто, после представления какой-нибудь новой оперы, заходил он ко мне и далеко за полночь разыгрывал с памяти места, которые наиболее нам понравились. Тут воспроизводились и в звуках музыкальные мелодии, и в лицах впечатления и суждения иных новозавербованных меломанов, которые, из подчиненности к начальству и к моде, выдавали себя за пламенных дилетантов. Между тем, были и в то время запретительные патриоты и протекционисты: они, оберегая домашнюю духовную промышленность, вопили против привозного заграничного удовольствия. Еще можно признавать, в некотором размере, требования протекционистов в деле фабричном и ремесленном; но в деле свободных искусств, кажется, нельзя не быть фритредером. Вообще, должно опасаться неблагоразумно суживать чувство народности и любви к отечеству: по этой дороге скоро дойдешь и до Китайской стены. Кн. Николай Борисович Юсупов не любил Кокошкина, тогда директора Московского театра. Может быть, в эту нелюбовь входила и частичка соместничества и ревности. Князь бывал сам главным директором Петербургских театров: большой и просвещенный любитель драматического искусства, по преданиям юности пламенный почитатель Сумарокова и знавший наизусть многие места из его трагедий, – может быть, желал он причислить и Московскую Дирекцию к своему ведомству Кремлевской Экспедиции. Своим резким, а иногда слегка и чингиз-хановским, остроумием преследовал он Кокошкина и поднимал его на смех. Однажды говорил он кн. Дмитрию Владимировичу Голицыну, что его кучер (т. е. кн. Юсупова) был-бы лучшим директором, нежели Кокошкин. «Вот что со мною случилось», продолжал он: «однажды, выходя из оперы, долго прождал я карету. Когда ее подали, я гневно спросил кучера о причине замедления. – „Извините, Ваше Сиятельство,“ отвечал мне кучер: „я был в райке, мне хотелось послушать музыку.“ – Это признание совершенно обезоружило мой гнев. А ваш Кокошкин ни разу не был в итальянской опере!»