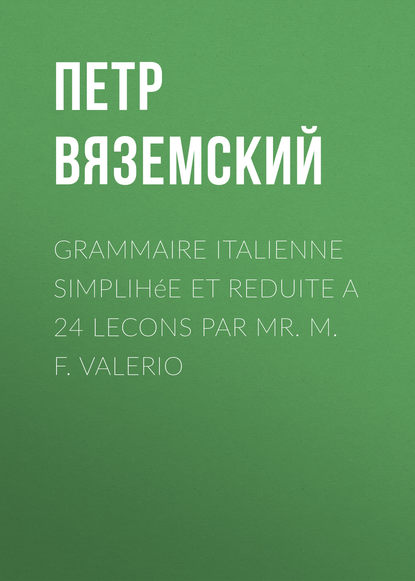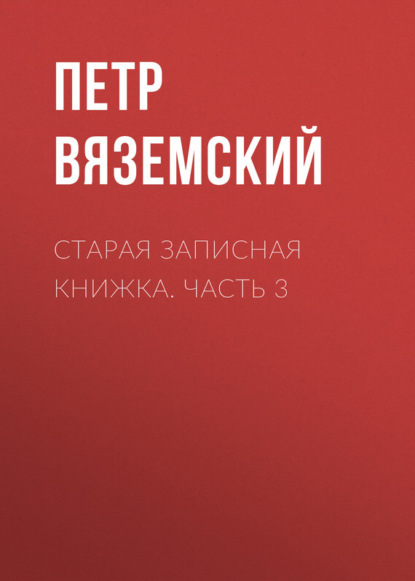 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Петр Андреевич Вяземский Старая записная книжка. Часть 3
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Петр Вяземский
Старая записная книжка. Часть 3
Книжка 15. (1853)
Дрезден
Январь 1.
Читал: Lex faux Demetrius, episode de l'histore de Russie – par Prosper Merimee («Лже-Дмитрия» Проспера Мериме). В Париже говорил он мне, что занимается этим сочинением, недовольный решением загадки Самозванца русскими историками.
12-е. В первый раз выпал порядочный снег. Все кругом бело. С отвычки тяжело глазам. Гулял по большому саду в снегу.
14-е. Читал в Revue des Deux Mondes статью Vellemain о генерале Foy и Демосфене. Французы не могут утешиться, что они лишены трибуны и способности болтать всенародно.
17-е. В квартете Бетховена en E-moll поразила меня русская мелодия святочной песни «Слава!» Липинский сказал мне, что это точно русская мелодия и квартет посвящен Разумовскому.
21-е. Немцы не взыскательны. Шутка смешит их потому, что она шутка; умна ли, смешна ли, замысловата ли, до того дела нет.
27-е. Утром был у нас князь Михаил Радзивил из Парижа. Много подробностей об императрице, императорском романе. Во Франции им вообще недовольны, боятся власти ее над мужем, который в жену влюблен. В ней нет любви. Иные полагают, что она обратит его к блузам, если не к красным. Досада его на царей, отказавших ему в невесте. Salvandy говорит, что этот брак напоминает ему Лжедимитрия и Марину. Я тоже подумал.
Февраль 2-е. Настоящая зима. Довольно снега. Встретил санки.
6-е. Зима все здравствует. Известие телеграфическое о покушении на жизнь австрийского императора.
8-е. В утренней прогулке снег при солнце так и жег глаза. Вечером трагедия Шиллера Фиеско. Публика довольно республиканская, бросили венок Девриану. Выбор пьесы на Королевском театре довольно странен после миланской передряги и покушения на жизнь австрийского императора.
11-е. Слышно, что Меншиков отправлен в Константинополь.
19-е. Кончил свою Масляницу на чужбине.
21-е. Из письма Булгакова узнал о смерти графини Виельгорской. Сегодня и для нас черный день.
25-е. Вчера праздновали масляницу блинами, изготовленными русским поваром Гайдуковым.
Речь царя Иоанна Васильевича при открытии Стоглавого Собора. Обычаи, которые порасшатались.
Март 3-е. В адресе колоний, кажется Антильских, Наполеону III сказано, что дядюшка его разносил Французские знамена от Нила до Невы.
4-е. Переписывал «8 января» (стихотворение).
9-е. Все заняты константинопольскими известиями и призывом флотов английского, французского и русского.
10-е. Вечером у Репниной. Письмо к ней Балабина о торжественном приезде Меншикова, чего не видали подобного со времен приезда Репнина и Кутузова.
13-е. Прочел книгу Монталамбера о «католических интересах» в XIX веке. Дело в том, по мнению автора, что церковь может быть свободна и могущественна только при представительном правительстве; следовательно, до 1815 года церковь не жила. Хорошее заключение.
14-е. Церемония Христова Воскресения в Римском соборе, в четыре часа пополудни. Весьма не пышная. Прежде совершалась она ночью, но за беспорядками отменили.
21-е. У Бейста. Она сбивается на покойную графиню Виельгорскую в молодости.
22-е. Узнал о смерти Каратыгина. Прежде умерли Брянский и Гусева, и все трое от холеры. В Москве сгорел Большой театр. Слышно и о смерти Щепкина.
28-е. Сестра английского посланника Fordes, Аделаида (одна из страстей Байрона), говорила мне о каком-то английском романе Три Испанца, который будто бы служил основанием Гяура Байрона.
Апрель 9-е. Вечером были у Репниной. Видел у нее книгу: Письма миссионера Макария.
11-е. Полторацкий в Париже.
13-е. Начало нашей страстной недели. Гулял в сосновом лесу. Вспоминал о Лесном институте. Читал Полтаву Пушкина. Как дарование его созревало и совершенствовалось с годами и как Полтава выше Кавказского пленника, Цыганов, Бахчисарайского фонтана. Два стиха только тут слабы: «Иль выйдет следствие плохое». Следствие тут тем хуже, что речь идет о следственном деле. И еще: «А волчьи – видишь: какова!» Явление Марии, сон ли Мазепы? Или сошла она с ума? Не ясно. Фантастические попытки неудачны у Пушкина. Например сон в Евгении Онегине. В первый раз Пушкин читал нам Полтаву в Москве у Сергея Киселева при Американце Толстом, сыне Башилова, который за обедом нарезался и которого во время чтения вырвало чуть ли не на Толстого.
17-е. Написал стихи к Вере Голицыной при отправлении моего портрета.
20-е. Получил письмо от Павла с известием, что жена его отправилась к сестре опасно больной в Берлин. Посылая стихи, я имел темное предчувствие, что могут придти они некстати.
21-е. Писал Булгакову с письмом Погодину о Ломоносове.
23-е. Вечером был у графини Динар, род дрезденской Марии Аполлоновны.
24-е. Кажется, наши турецкие дела плохо идут.
Май 8-е. Выехали из Дрездена утром. Обедали в Теплице, ночевали в Брюкене, Чешский Мосток. Говорят, что мы народ завоевательный, а мало ли мест, из коих вытеснены мы немцами.
9-е. Приехали в Карлсбад. Что скажешь ты мне, Карлсбад, в нынешний приезд?
28-е. По железной дороге отправился вчера в Прагу. Был у Ганки.
29-е. В 6 часов утра прибыли в Вену. Был у священника Раевского. Застал одну попадью. Видел место, где было покушение на жизнь императора.
30-е. Венский народ гуляка во всех слоях своих. Русская обедня. Раевский очень хорошо служит. С Парижа не слыхал обедни. Тут был и наш парижский священник Васильев. Едет, кажется, в Петербург для принятия посвящения в протопопы. Он был напоминанием живым того, как я слушал обедню в Париже. Познакомился у Раевского с Вуком Стефановичем.
Август. Плавание до Венеции покойное и прекрасное. Светлый день, море тихое, то синее, то зеленое. Плыли шесть часов и прибыли в Венецию в полдень. В разные поездки написал, т. е. не написал, а надумал: Зонненштейн, Фрейнберг, Прага, Ночью на железной дороге, Дрезден.
* * *Вскоре после освобождения Вены польским королем Собиеским Венецианская республика заключила союз с империей, Польшей и Россией и объявила войну Турции. При доже Сильвестре Вальеро (1694-1700) заключен был новый союз между Венецией, Польшей, Австрией и Россией при Петре I.
По его просьбе республика дала ему работников, которые построили много кораблей в наших портах. Мирным договором, заключенным в Пассаровитце, 21 июля 1718, Венеция отказалась от прав своих на Кандию и Морею, сохранив только острова Cerigo и Cerigotto и несколько укрепленных мест в Далмации и Албании. От сей эпохи начинается падение республики. Венеция имела многие торговые конторы в Азове и для охранения их заключила в 1281 г. договор с Чингис Ханом. Республика отправляла каждый год четыре большие торговые флота под прикрытием вооруженных галер. Один из этих флотов доходил Азовским морем до устьев Дона. Туда приходили русские и татарские караваны с товарами по Каспийскому морю и вверх по Волге. (Из «Краткой истории Венецианской», сочинение A. Quadri.)
* * *Венеция. Воскресенье 23 августа (4 сентября).
С приезда заходил я почти каждый день в базилику Св. Марка. Не видел еще Pala d'oro, византийская икона: она закрыта.
Не знаю, почему не показывали нам Piombi, но видели Pozzi. Страшное имя. Подумаешь, что заключенные точно содержались под водою в каких-то колодцах, а в сущности тюрьма как тюрьма.
На карте мира fra Mauro 1460 года означен мыс Доброй Надежды, тогда еще не открытый.
Был в публичном саду. Скачка. Молодые Санхо-Панца на каких-то Росинантах. Скачка на двухколесных колесницах. Тут по крайней мере есть какая-то местная краска, воспоминание и карикатура древних ристалищ. В Венеции лошадь и гиппическое представление редкость, род лодки в песках Аравийских.
Мост Rialto, сооруженный в 1591 году дожем Pascual Cicogna (коего дом с резными окнами видел я сегодня на канале). Лидо с castello. S. Andrea. В крепость не входил, а видел море.
Остров св. Лазаря, Армянский монастырь Мекитаристов, от имени основателя Мекитара. Чисто и порядочно содержанный. Армяне отличаются между восточными племенами опрятностью и благочинием, по крайней мере в своих публичных и церковных зданиях. В Пере Армянская церковь, за исключением посольских дворцов, едва ли не единственное чистое место; в Иерусалиме Армянский монастырь – тоже. Большая Египетская мумия; редкие рукописи, между прочими Библия, писанная на армянском языке в Персии с прекрасными живописными изображениями. В рамке на пальмовых листьях вылощенных что-то писанное на бирманском языке. Стол, на котором Байрон учился армянскому языку.
С отцом Pascal Aucher, который ныне очень стар и разбит параличом. На приветствие мое ему, что он пользуется европейской известностью, отвечал он мне, что обязан тому путешественникам, которые слишком благосклонно о нем отзывались, особенно Байрону, напрасно преувеличившему трудность армянского языка. Aucher за старостью и дряхлостью не служит уже отцом cicerone, а другого младшего товарища его, Gregoire Alepson, нет теперь в Венеции; кажется, он в Парижском Армянском институте.
Московский Лазаревский институт здесь известен. Хорошо устроенная типография. Я купил в ней армяно-русскую грамматику, посвященную цесаревичу Александру Николаевичу. Посвятительное письмо изложено правильным и чистым языком; и молитву, изданную на 24 языках, и, между прочим, на иллирийском, русском и польском. Довольно дорого: грамматика стоит 10 франков, а полиглотное издание – 15. Впрочем, выручка этих книг идет на содержание учебного заведения, в котором воспитываются молодые армяне.
Путеводителем моим был молодой монах, уроженец Константинопольский. Довольно свободно изъясняется по-французски.
В близости монастыря проезжаешь, или правильнее, проплываешь мимо острова S. Servolo, на котором больница и дом умалишенных. Из решетчатых окон один из несчастных что-то кричал нам вслед.
Вчера лазил я на колокольню Св. Марка – всход солнца. Обширный вид. Городские каналы закрыты крышами домов, и тут не догадаешься, что город построен в царстве морском.
Сегодня, т. е. воскресенье, 23 августа, утром ходил я по набережной Giudecca, заходил я в церковь S. Sebastiano – особенно богата картинами Павла Веронеза. «Мучение Св. Севастьяна», «Св. Николай» Тициана. Тут погребен Веронезе и поставлен бюст его. Стены и потолок им же росписаны. На месте, где покоятся останки его, нет памятника, но самая церковь – лучший и собственноручный ему памятник. Памятники особенно нужны тем, о которых следует напоминать.
Церковь S. Angelo Raffaele – мадонна del Carmine – колокольная башня угрожала падением в конце XVI века. Архитектор Иосиф Сарди выпрямил ее в 1688 г.
Маленькая церковь S. Barnada. Где-то на площади заметил я на камне вырезанное слово sacrum. Мой гондольер Джузеппе сказал мне, что преступник, за которым гнались, был в старину неприкосновенным, когда удавалось ему ступить на подобный камень. На мосту, где в старину совершались кулачные бои двух враждебных, или, по крайней мере, междоусобных артелей гондольеров Castellani Nicoletti (первые были особенно под покровительством правительства, другие принадлежали народной партии), втиснуты четыре ноги, на которые становились бойцы. Перил тогда на мосту не было и побежденный часто падал в канал.
Сегодня первый день отдыха или роздыха после томительных жаров. Всю ночь дул ветер и воздух освежился. В первый раз мог я немного ходить и приняться за свой журнал, не утопая в поту.
15 августа. В день Успения были мы у обедни в греческой церкви Св. Георгия, построенной в 1550 г., знаменитым архитектором Sansovino. Во время служения играла на церковной площадке полковая австрийская музыка к соблазну православных. Ход вокруг церкви также при музыке. Архиерей благовидный старец. Сказывают, что великий князь Константин Николаевич велел списать для себя портрет его. Меня не впустили в алтарь, сказав, что одни духовные лица и австрийский император допускаются.
Два раза был я в театре Gallo A.S. Benedetto. В Италии и театры, как церкви, окрещены во имя какого-нибудь святого. Дают оперу Верди Attila и довольно плохо; но Итальянская опера в Италии, как ни будь посредственна, имеет особенно свежий вкус доморощенного молодого вина, которое пьешь на месте.
Теперь следует описать La piazza di S. Marco и ежедневные вечерние ее рауты и поименовать венецианские мои знакомства. Площадь, обставленная великолепными зданиями, с базиликой Св. Марка в оконечном углублении своем, конечно, картина величавая и поразительная. Предпочитаю ее днем, нежели вечером, особенно когда не светит месяц. Она не довольно освещена, хотя венецианцы и жалуются, что газ испортил их площадь и разорвал покров темноты, на ней лежавший и столь благоприятный любовным и прочим тайнам.
В Париже, в Лондоне, подобная площадь горела бы тысячами солнцев.
Другая невыгода: на площади летом и особенно в продолжение нынешних жаров – душно, как в законопаченной большой зале. Под открытым небом невольно думаешь: хорошо бы раскрыть окно. Жене вечерняя эта площадь напоминает залу Московского дворянского собрания с ступенями своими и галереями вокруг.
Третья невыгода – ужасная музыка вокальная и инструментальная, которая дерет уши по всем направлениям площади пред кофейнями, когда не играет полковая музыка. Странное дело, как музыкальная натура итальянцев производит подобных мучителей и выносит подобное мученичество. То ли дело, если раздавались бы тут звуки оркестров Карлсбадского Лабицкого, Дрезденского Гюперфюрста, Венского Штрауса.
Четвертая невыгода площади это стулья, на которых осуждены сидеть посетители. Эти стулья вроде каких-то пыточных козлов, на которые, вероятно, в старину Совет Трех сажал для допроса гостей своих. Впрочем, Тюльерийские стулья не лучше.
С изменением нравов эти площадные собрания потеряли свой характер поэтический и романтический. Сцена лучше и великолепнее, но действием это те же бульвары парижские. Мороженое – главный интерес. Теперь же высшее общество рассеяно и по большей части встречаешь среднее и низшее сословия и путешественников. Но и в многолюдные эпохи года, сказывают, все не то, что в старину. Тогда было несколько салонов в домах, окружающих площадь, и хозяйки и гости сходили на площадь как в свой сад, чтобы освежиться и прогуляться. После полуночи из театра все являлись на площадь. Теперь после 10 часов площадь пустеет. Венецианцы дуются на австрийцев, и нет никакого сообщения между ними. Они жалуются, что они убили их общежительную жизнь; кажется, жалобы не совсем справедливы. Эта жизнь отжила свой век, преобразовалась как и везде. Разве парижские салоны те же, что в конце XVIII века? Не австрийцы же лишили венецианок хваленой их красоты. А теперь не встречаешь красавиц – иначе как в рамках знаменитых прежних художников.
Видно, и природа по эпохам истощается, и у нее бывают свои периоды либерализма и противодействия.
Напрасно клепаем мы на петербургский климат и на переменчивость его погоды, как будто ему исключительно свойственную. Третьего дня мы умирали от жара, днем жарились на солнце, а ночью разваривались в соку своем от духоты. Вчера было уже свежо, а сегодня (т. е. 24 августа/5 сентября) еще гораздо свежее, так что, может быть, и в Петербурге теплее. Со дня на день летнее платье заменяется суконными, поры сжимаются, и испарина обращается вспять.
Продолжаю, однако же, свои купания. Вчера в воде пополудни было 19? градусов тепла. Итальянцы уже перестали купаться, и вчера я один был на просторе, а то была настоящая толкотня в воде. Итальянцы очень возятся и забавляются в воде, как дети, иногда не очень вежливы и невнимательны к ближнему.
25 августа/6 сентября. Петербург продолжается: ветер свежий, дождь, вода из каналов выступает и заливает мостовую. Пред окнами нашими старуха остановилась пред этим разлитием: мужчина схватил ее в руки свои и перенес в сени ближайшего дома. Вчера в темноту, в 12-м часу ночи ходил я вдоль Canal della Giudecca: волны плескали на набережную. Все пусто, встретил только двух людей. Сказывают, здесь совершенно безопасно ходить ночью по узким переходам и перепутанным закоулкам. Но чужестранцу надо иметь проводника, чтобы на затеряться.
Сегодня утром ходил я в церковь S. Toma. Во многих местах стены и потолок пробиты ядрами во время осады в последнюю революцию. Собрание святынь. Есть и собрание исторических автографов; но я не видел его. Проходил мимо дома Goldoni, в Calle Centani № 2369. Над дверьми изображение его в медальоне.
Мост della Donna Onesta. Каждый мост имеет свое предание и родословие. На этом месте была содержательница кофейного дома и честно торговала, посетители прозвали ее donna Onesta, и прозвание ее перешло к мосту…
Был в Chiesa del Santa Varia de Frari – обширный и великолепный храм.
Гробницы Тициана и Кановы – одна против другой. Памятник Фоскари (дожа) скоропостижно умершего, когда раздался звон колокола, возвещавший об избрании наследника его (1457 г.). Хоры (т. е. алтарь с местами, где сидит духовенство) прекрасной работы; резьба на дереве и штучная.
Памятник Кановы сооружен по его рисункам, которые он готовил для памятника Тициану. Это напоминает Requiem Моцарта, который, не угадывая того, сам себя отпел. Монумент сей сооружен по Европейской подписке и стоил 102 тысячи франков (не много в сравнении с тем, чего стоят наши памятники в России, которые к тому же не умножают собою наличного капитала всемирных изящных богатств). В числе подписчиков упоминаются русский император, Голицыны, Демидовы, Разумовские, Аникьевы (вероятно, наша Ольга Дмитриевна). Этот способ предавать имя свое бессмертию, говоря: «И моего тут меда капля есть», гораздо понятнее и приличнее общей страсти путешественников пачкать стены скал и зданий уродливыми начертаниями имен своих. Иной с опасностью для жизни удовлетворяет этой страсти, карабкаясь Бог весть куда, чтобы только повыше и повиднее занести свою визитную карточку к бессмертию. Иному герою не нужно было более храбрости, чтобы пойти на приступ и водрузить на стене знамя победы.
При церкви есть здание для хранения государственных бумаг древних и новых; но архив этот, сказывают, недоступен посетителям. Тут, между прочим, и знаменитая Золотая книга.
26 августа/7 сентября. Годовщина Бородинской битвы. Надобно будет когда-нибудь записать мне этот оторванный листок моей жизни, который, как и многие другие листки, не вплетен в мою жизнь. Я часто замечал, что во многом я нравственно не доделан, а потому и действия мои какие-то обломки недостроенного здания.
Если декорация переменилась, и Венеция уже не смотрит Петербургом, то все еще крепко смотрит сентябрем. Утро было яснее и, казалось, вёдро восторжествует над ведрами – но опять пошел дождь, загремела гроза.
Сегодня заходил я в церковь S. Maria del Rosario. Она славится своим огромным алтарем и картиною Тинторета «Cristo in croce e la Maria» – статуями и барельефами ваятеля Morleiter. Вообще во всех церквах изобилие мраморов в статуях, в колоннах, в помостах, изумительные.
Palazzo Foscari- теперь Австрийская казарма (так ли?). Некоторые дворцы напоминают Родосские дворцы, которые сохранили на стенах своих гербы прежних своих благородных властителей, а ныне заняты турками. Ныне заходил я в подобный palazzo со знаменитым гербом свидетелем лабазной торговли. Вчера видел другой дворец, где ныне ликерное заведение. Со времен республики сохранились в саду его при входе две большие куклы, солдаты, – но кажется, мундиры на них перекрашены на австрийский цвет.
Вчера купался в ванне, 20 градусов тепла, в заведении. Очень чисто и хорошо устроено. Проходил мимо театра della Fenice. Жаль, что не откроется прежде зимы. Прочел с учителем первую песнь «Ада» и нахожу, что довольно свободно понимается; французский перевод Ратисбона близок, особенно для французского перевода.
29 августа/9 сентября. Вчера в праздник Рождества Богородицы был у обедни в церкви S. Maria del Rosario. Описал в письме к Тютчевой. Переписано в другую книгу. После ходили на Campo di marte, где бывают полковые учения и парады – и иногда до 12-ти штук конницы, говорил нам с некоторой самодовольной важностью наш гондольер. Тут же большая табачная фабрика, куда приходят на работу 1000 и более женщин, девиц и детей. Тут можно сделать смотр состояния женского венецианского пола, что и предлагал мне Брока.
Вечером был на piazza, где за дурной погодой не был несколько дней сряду. Сегодня Венеция принарядилась по-прежнему солнечным сиянием.
Тепло, а не душно. Я уже три раза купался в ванне от 20 до 22 градусов тепла.
Сижу в ванне 10-20 минут. Утром сделал пешком прогулку довольно значительную, особенно для Венеции не пешеходной, по riva degli Schiavoni; ходил и в Giardino Publico.
Наполеону во время своего беспредельного могущества захотелось посадить несколько волос на голове лысой Адриатической красавицы, и волоса принялись и уцелели лучше, нежели железная корона на собственной его голове. В этом саду есть зелень, есть тень, есть пригорки, все редкости и невидальщины в Венеции.
Дорогой заходил я в церковь S. Biagio, приход арсенала. Тут мраморный памятник великого адмирала Angelo Emo, работы Joseph Ferrari Torretti в 1792.
В его мастерской учился Канова. В этой церкви есть греческий придел для матросов греческого исповедания, но, вероятно, униатского. В одном Иерусалиме сходятся под одной крышей разноверческие исповедания.
Проходил мимо арсенала на обратном пути, видел наружные украшения. Четыре греческие льва Гиметского мрамора (близ Афин). Много толков и споров о местопроисхождении этих львов, но водворены они в Венеции Франческом Морозини Пелопонезским в 1687. На Венецианских площадях более львов, нежели в Парижских салонах.
В Albergo Reale Danieli (бывшем pallazzo Bernardo Mocenigo) был я у M. Nordin. Тут же стоял и general Changarnier. Хотелось идти к нему, но посовестился. Политические известности, если не знаменитости, не то, что литературные и артистические, к которым доступ всякому свободен. Впрочем, он в тот же день уехал. В гондоле ездили мы с женой к леди Соррес, к старухе Больвиллерс (сестра покойного Убри), к графине Туркул, и занес я карточку к comte de Dameto, камергеру de l'Infant d'Espagne в палаццо Rezzonico, купленном или нанятом инфантом. Дон Карлос живет в Триесте.
30 августа/11 сентября. По воскресеньям маленький пароход отправляется в 9 часов утра в Chioggio, три часа плавания мимо множества островов: Malemoco, Pelestrina и проч., мимо здешней Китайской стены Murazzi.
Все эти острова связаны с историей Венеции. Киожжио имеет также своих львенков, свою пиаццу, или большую, довольно широкую улицу, свои каналы и мосты.
Первое мое впечатление было удивление слышать хорошую музыку. Я думал, что это полковая, но привлекаемый звуками вошел я в большую залу della municipalita, где происходила проба вечернего концерта. Большой оркестр, составленный из городских дилетантов, разыгрывал на духовых инструментах с отменной стройностью и увлекательностью разные музыкальные пьесы.
Главная церковь славится своим baticterio и кафедрой. Не знаю, часто ли с пользой и назидательностью действует последняя, но крестильница в большом употреблении. Я имел случай проверить лукавые и эпиграматические отзывы Jules Lecomte (Venise) о плодородии киожжиоток. Менее нежели в полчаса принесли для окрещения трех младенцев в деревянных ящиках со стеклами. На замечание мое одна из молодых крестных матерей с улыбкой созналась, что нет опасения, чтобы киожжиотское народонаселение скоро перевелось.
Женский пол и мужской славятся здесь красотой. Женщины носят белые покровы, которые с поясницы подымают они на голову – вроде турчанок, но лица не закрывают. Тициан любил искать здесь свои подлинники, и несчастный Leopold Robert перенес отсюда на холстину прекрасные типы картины своей «Le depart du pecheur de 1'Adriatique».
В лодке отправился я в Sutto Marina, где обыкновенно здоровые и красивые девы и жены служат гребцами, тогда как отцы и мужья их сидят себе или лежат в лодке. Прежде киожжиоты и сутто-маринцы, разделенные пространством версты, жили между собой во вражде, как добрые соседи, но последняя революция прекратила это междоусобие, как и то, которое существовало между Nicoletti и Castellani.
Ходил по Murazzi, устроенном тремя террасами. По одну сторону море плещет и воет, по другую молчание и спокойствие. Даже почти не слыхать, что за перегородкой делается. На улице в Chioggia нашел два народные сборища: в одном несколько человек сидя слушали чтение «Orlando Innamorato». Чтец громогласно читал, с большим жаром и жестами, подкрепляя чтение объяснительными комментариями. В другой группе, менее многолюдной, чтец читал также с телодвижениями и словесными комментариями, историю Наполеона, и, между прочим, о назначении Фоу-ке (Фуке) министром полиции. Толпа, составленная преимущественно из рыбаков, здесь и там слушала, казалось, внимательно. Слушательниц не было. Они расхаживали по улице или сидели в церквах. Тут отыскал я Италию с ее красками и обычаями.