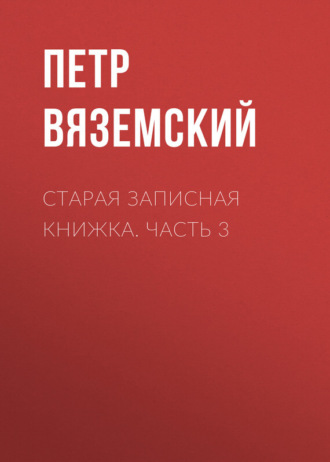
Петр Вяземский
Старая записная книжка. Часть 3
Лион. 8 июня. Был в Hotel Dien. 1800 с чем-то кроватей для больных, которых принимают бесплатно и без разбора сословия, состояния, народности и исповедания. Имеет дохода 4 миллиона франков. В больнице перебывает круглым счетом 18000 больных; смертность десятый процент, разумеется, из простолюдинов. Входят в больницу или безнадежные, или уже изнуренные болезнью. Красный Крест снабжает больницу около трети больных и большей частью чахоточных. Вот опять le travail libre. Больной обходится заведению в полтора франка. Желающие могут платить за свою кровать. Есть особые комнаты, где платят по 12 франков в день за все содержание и лечение. Залы обширные и кровати железные просторно расположены. Два придела, в которых обедня совершается ежедневно. За больными ходят сестры милосердия.
Есть и в других местах города богоугодные заведения. Недавно умер в Лионе знаменитый хирург Бонне, тот самый, кажется, который взял с Казаковой 12 тысяч франков за операцию, сделанную дочери ее. В народе идет молва, что его отравила собратия в Турине, куда приглашен он был королем для операции в семействе его.
Кончил вечер до полуночи в театре. Давали мелодраму «Картуш». Характер его довольно удачно выдержан. Я сидел в креслах и со мной было приключение вроде маскарадного, за мной сидела довольно приятной наружности дама с маленьким мальчиком. Я вообще в публичных местах не задираю разговора; но тут попросил я у нее программы, которой не мог достать в театре. Разговор слегка завязался. Она сказала мне, что, как только вошел я в театр, признала меня за русского. «Благодарить ли мне, или обижаться?» – спросил я. «Конечно, благодарить, – отвечала она, – потому что я очень люблю русских». Говорила она мне о графине Бобринской-польке, которую знала во Флоренции и с которой она в переписке. Про себя сказала она, что она смесь разных народностей: английской, итальянской и французской. Дал я ей свою карточку. Она спросила: «Да вы, однако же, не муж Вяземской, урожденной Столыпиной?» – «Нет, – отвечал я, – муж ее моложе и он мой сын». – «Ваше имя знаю теперь, а своего сказать не могу». Как так? Я ничего не мог понять в этой таинственности.
Тут пошел разговор совершенно маскарадный. Я был налицо, а собеседница моя под маской и в домино. Вдруг блеснула во мне догадка, что эта женщина, с которой Монго Столыпин был в связи во Флоренции и на руках которой он умер.
Я сказал ей, что угадал ее. «Если меня вы и угадали, то все-таки в том не признаюсь». Спросил я ее, знает ли она сенатора Халанского? Отвечала: «Знаю».
Это разрешило весь вопрос. Халанский был во Флоренции при смерти Столыпина и говорил мне в Марселе много хорошего о ней – как она ходила за больным, и о ее бескорыстии. После сказала она мне, что приехала в Лион для детей своих, кажется, сошлась она опять с мужем и с тещей своей – по крайней мере, дозволено ей видеть детей, – старшего отдает в College etc. etc. etc.
Может быть, приедет она в Россию с графиней Бобринской, которая приглашает ее с собой месяца на два или на три. Она принадлежит хорошей фамилии, муж ее le comte de Vogue (граф Вог), имеет поместье недалеко от Лиона. В ней много приветного и простодушного. Красавицей она мне не показалась. Это одна из тех женских натур, которая мягкостью и восприимчивостью своей способна увлекаться и падать. Предопределенная добыча сердечного романа. Можно сожалеть о подобных женщинах, но осуждать их совестно. Я уверен, что в связи с нею Монго отдыхал от долгой, поработительной и тревожной связи своей с * * *.
9-е. Оставляем сегодня Лион и едем в Женеву.
31 мая (12 июня). Женева. Троицын день. Был у обедни. Церковь полна русскими.
1-го июня, старого стиля. Вчера был в театре. Ездили вечером к месту, называемому la Jonction, где сливается Рон и Арва, но сохраняют свой цвет. Вот что должно быть с Польшей и Россией. Не требовать, чтобы Польша уничтожалась перед Россией, а довольствоваться тем, чтобы она слилась с нею и рядом текла. Прелестное местоположение.
2-е. Ездили в Ферней. Великолепная радуга.
3-е. Утром писал статью о Фернее. Вечером ездили по берегу озера в савойскую сторону. Заходил в игрецкий дом Фази. Очень хорошее помещение. Из учтивости проиграл 10 франков в красное и черное, не зная, что черное и что красное.
4-й. Вечером был в театре. Давали драму или мелодраму Don de Bazan. Все то же направление. Don Cezar – промотавшийся дворянин, пустившийся в разврат. На поверку выходит, что он торжествует над королем Карлом II, унижает его, вступается за него, убивая первого министра и любимца его, который короля обманывал, и проч. и проч.
5-е. Был в Cathedrale de St. Pierre. Эти римские храмы, обнаженные и ободранные реформой, представляют грустное зрелище. Памятник Рогана, о котором говорит Карамзин. Я садился в кресло Кальвина.
11-е. Наконец видел я Mont-Blanc при захождении солнца. Весь снег, вся гора были алые.
12-е. Ездил на гору Grand Saleve – в коляске до селения Monnertier, а тут пересел на ослицу, именуемую Amazone, и взобрался до шале на вершине горы. Вид, разумеется, обширный; но Mont-Blanc был обернут в непромокаемые, или непроницаемые облака. На обратном пути, около деревни Mornex, показался он мне. Мой кучер толковал мне, что вершины горы изображают Наполеона, по вскрытии гроба его на острове Св. Елены; и в самом деле есть что-то похожее на то (анекдот Пушкина о лицейском Яковлеве). Кругом Женевы удивительная зелень и растительность.
13-е. Великолепное захождение солнца на Белой горе, то она розовая, то счеканена, или вылита в золото. Шляпа, лоб, нос Наполеона. Точно апофеоза его, в каком-то необыкновенном сиянии.
15-е. Встреча с Лионской красавицей.
17-е. Собирался ехать в Шамуни, помешал дождь. Неожиданно явился Плетнев.
Книжка 26. (1859-1860)
Царское Село, 19 ноября 1859 Приехали в Петербург 10-го числа вечером. Остановился в гостинице Демута. Еще в Германии простудил я себя, дорогой еще более достудил и решился просидеть несколько дней дома. Вчера приехал сюда, по приглашению, на несколько дней. В день приезда обедал у императрицы. Были князь Горчаков и министр Муравьев. Как приезжего гостя государыня посадила меня возле себя за столом. Вечером читали новую повесть Жорж Занда. Сегодня вечером 19-го рассматривали живописные снимки Мартынова с Софийского собора и всех его принадлежностей. Князь Григорий Гагарин.
24-е. Ездил в город. Обедал у Мещерских. Вечером спектакль и бал у Елены Павловны.
25-е. Возвратился в Царское. Вечером был у их величеств. Читали начало Степной Цветок на могилу Пушкина – сочинение Кохановской. Ум за разум заходит, и ум не русский, а наряженный в немца. В Пушкине преследуют какой-то предначертанный идеал и ломают его, и растягивают по этому Прокрустову образцу. А Пушкин был всегда дитя вдохновения, дитя мимотекущей минуты. И оттого все создания его так живы и убедительны. Это Эолова арфа, которая трепетала под налетом всех четырех ветров с неба и отзывалась на них песней. Рассекать эти песни и анатомизировать их – и вообще создание всякого поэта – и искать в них организированную систему со своей строгой и неуклончивой системой – значит не понимать Пушкина в особенности, ни вообще поэта и поэзии.
27-е. Читал императрице отрывки из воспоминаний Пущина о Пушкине.
28-е. Играли в Secretaire.
29-е. Французский спектакль. «Une distraction» и «Les femmes terribles». Говорили, что некоторые осуждают появление в печати 6-го тома Устрялова о смерти царевича Алексея. «Конечно, жаль, – сказал я, – что такие дела делаются на свете; как жаль, что, так сказать, на другой день создания мира Каин убил Авеля, что позднее Бог казнил землю потопом, чтобы вразумить людей, и много тому подобное; но что же делать, если оно так было: нельзя же исключать это из совершившихся событий».
1 декабря. Обедали у императрицы Мальцева и я.
2-е. Обедал у их величеств. Были министры: князь Горчаков и Ковалевский, князь Василий Долгорукий, княжна Долгорукова, княгиня София Гагарина. Разговор о 6-м томе Устрялова.
3-е. Утром был у императрицы. Говорили о Титове, о новом цензурном положении etc. Обедал у их величеств. Катенин из Оренбурга, Чевкин, Александр Адлерберг, молодой Дурново. Вечером разговор и чтение.
4-е. Обедал у их величеств. Были великая княгиня Екатерина Михайловна с герцогом, Мальцева, барон Мейендорф, Долгорукий, Александр Адлерберг. После обеда разговор с государем о Записках Екатерины и временах ее.
5-е. Выехали из Царского Села. Обедал у Тютчевых.
8-е. Обедал у их величеств – с Marie Вяземской, Рибопьером и Горчаковым.
9-е. Обедал у императрицы с четой Мейендорф, Мальцовой. Обедала и великая княгиня Александра Иосифовна. Императрица пригласила Мальцеву и меня в ложу свою Александрийского театра. Давали Грозу Островского. Драма производит сильное впечатление. Мастерски разыграна.
10-е. Обедал у племянника Ковалевского. Мало ученого люда, не то что бывало у Норова. Статья Безобразова, напечатанная в Русском Вестнике, «Аристократия и интересы дворянства» наделала много шума в высшем правительственном кругу – и служила темой прений в Совете Министров. Окончательное обсуждение ее отложено до следующего заседания. Вечер у великой княгини Елены Павловны под псевдонимом княжны Львовой. Были их величества. Пели итальянцы.
11-е. Был в общем собрании Сената.
1860. Январь. В конце минувшего года был два раза у обедни в Казанском соборе. Ездил каждый день в Сенат. Несколько раз обедал во дворце и два раза был с императрицей в театре. Стихи никак не шли, так что не мог кончить стихотворения, начатые в дороге. «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, не даждь ми». Или вернее: отыми, отжени от меня, потому что я их имею.
5-е. Вот и сегодня заседание Сената продолжалось несколько минут и в рассмотрении было всего два пустые дела, требующие только подтверждения присутственным местам. Как же не предоставить первоприсутствующему право созывать сенаторов когда нужно – и в одном заседании вершить дела, распределенные на несколько заседаний. Таким образом вообще более трех раз не приходилось бы ездить в Сенат. А то выгоняют нас каждый день на барщину, есть ли работа, нет ли работы. Везде стеснительные обряды.
27-е. Мне с некоторых пор сдается, что со мной играют комедию, а я комедию не хочу и не умею отвечать комедией. Оттого мне очень неловко и тяжело. Имею внутреннее сознание, что в отношениях со мной нет прежнего, сердечного благорасположения, а соблюдаются одни внешние формальности. Что причиной этой перемены, придумать не могу. Может быть, просто опостылел, как то часто бывает с женщинами и при дворе. А может быть, и оговорили меня добрые люди. Как и за что – неизвестно. На совести ничего не имею; а положение мое, кажется, так для всех должно быть безобидно, что никому я ничего не заслоняю. Как бы то ни было, вся поэзия моих прежних отношений полиняла и поблекла. При дворе я не двор любил и меня вовсе не тешило, что и я имею место между придворными скороходами и придворными скороползами всех чинов и всех орденов. Мне дорого и нужно было сочувствие; а без сочувствия мне там и делать нечего, о чем и следует при удобном случае крепко и окончательно подумать.
NB. Пишу это после обеда третьего дня и вечера вчера. Стало быть, обижаюсь не тем, что меня забывают, или что для публики я будто в опале.
* * *
6 февраля. Княгиня София Григорьевна Волконская сказала мне на днях, слышанное ею от императрицы Елисаветы Алексеевны в Таганроге, после смерти Александра государь имел в руках своих все нити заговора, вспыхнувшего 14 декабря, но не решался обратить на заговорщиков строгость закона, пока действия их не угрожали безопасности государства. Он говорил также, что, может быть, и сам завлек некоторых, выражая либеральные понятия и возбуждая либеральные упования.
* * *
Великая княгиня Ольга Николаевна говорила, что императрица Мария Федоровна сказала однажды: сын мой Александр не мог наказывать заговорщиков против жизни отца своего; но сын мой Николай обязан был наказать заговорщиков против жизни Александра.
* * *
Граф Блудов уверял, что император Александр хотел расстрелять Сперанского; но не допущен был к преданью Сперанского военному суду по настойчивым убеждениям Парота, который тогда пользовался особенным доверием императора и которого будто с той поры государь уже не принимал к себе, не отвечая на письма его. Признаюсь, это по мне невероятно. Если император имел бы намерение предать Сперанского суду, то он заключил бы его в Петропавловскую крепость, а не начал бы с того, что тотчас отправил его в Нижний Новгород.
* * *
Граф Блудов полагает, что Сперанский знал о замыслах в царствование Александра и приготовивших 14 Декабря. Он, кажется, был злопамятен и не прощал государю опалы своей…
Книжка 27. (1859-1861)
9 июля нового стиля 1859 года. Стуттгардт. Вечер провели на вилле у великой княгини. Императрица Мария Александровна спрашивала через телеграф, где я нахожусь.
10-е. Выехал из Стуттгардта в одном поезде с великой княгиней Ольгой Николаевной и Верой Горчаковой.
Баден-Баден, 19 июля. Вчера приехал сюда.
* * *
25 июля. Приехал в Карлсбад сегодня. Здесь Мещерские и Лиза Карамзина, Брок, граф Лев Потоцкий, сенатор Щербинин и пр.
6 августа. Нашел здесь варшавского приятеля генерала и поэта Моравского. Не узнал бы я его, так он постарел; впрочем, ему 77 лет. И он меня не узнал.
9-е. Ладыженская, урожденная Сушкова, читала мне свою статью о Растопчиной. Много хорошего.
18-е. Бал в честь австрийского императора. День рождения его. Познакомился с князем Paul Esterhasy.
29-е. Выехали из Карлсбада.
1 сентября. Приехали в Баден-Баден.
4-е. Выехали с Титовым в Интерлакен.
6-е. Вчера вечером у императрицы. Обедал у императрицы. Титов уехал после обеда. Вечер у императрицы.
7-е. Читал стихи свои на вечере императрицы.
8-е. Поехали в 10 часов утра с императрицей на пароходе по озеру Brienz.
9-е. Были с императрицей на развалинах замка. По некоторым преданиям, замок Рауля – синей бороды.
13-е. Думал ехать. Императрица приказала телеграфировать жене, что удержала меня.
14-е. Телеграмма от государя о покорении Дагестана и взятии Шамиля, которого везут в Петербург.
15-е. Вчера выехал на пароходе.
16-е. Баден-Баден.
17-е. Утром был у принца Прусского, вечером у принцессы, которая не принимает меня всерьез и отделывается со мной общими вежливостями. Сегодня писал Анне Тютчевой.
19-е. Приехал сюда Бунсен.
20-е. Целый день слоняюсь без мысли, цели и желанья. Баден-Баден имеет удивительную одуряющую силу.
25-е. Выехали из Баден-Бадена.
27-е. Приехал в Дюркгейм. Дня три разнемогался я сильной простудой. Здесь Мещерские и Карамзины.
2 октября. Писал Икорникову со стихами.
6-е. Писал Анне Тютчевой.
9-е. Выезжаем из Дюркгейма.
10-е. Приехали в Гейдельберг. Вечером были у Бунсена.
15-е. У Бунсена видел немецкого поэта Майера, бывшего секретарем при Альберте, муже английской королевы.
20-е. Был у профессора греческого языка Гофмана, высланного из Московского университета в 1848-1849 гг. за либерализм, а по словам жены – за участие, которое он письменно принимал в устройстве германского флота. Кажется, если так, либерализм очень невинный.
23-е. Выехали из Гейдельберга.
24-е. Приехал в Баден-Баден. Отца Янышева не застал. Он в Париже. Кончил в курзале. Музыка, игры, журналы и Никита Всеволожский.
29-е. Приехал в Баден-Баден.
1 ноября. Выехал из Бадена в Стуттгардт. Видел Титова. Разговор о Петербурге.
6-е. Отдал Ольге Николаевне стихи императрице. Сегодня выехали из Стуттгардта.
12-е. Приехал в Берлин. Обедал у Будберга с Моренгеймами и молодым Мейендорфом. Вечером был у князя Вильгельма Радзивила.
14-е. Кенигсберг.
22 июня 1860 года. С.-Петербург. Был приглашен в Царское Село к обеду и оставался до 25-го. Возвратился на Лесную дачу.
4 июля. Пробыл по приглашению два дня в Петергофе.
21-е. Приехал в Петергоф вечером. Был у великой княгини Екатерины Михайловны в Ораниенбауме.
22-е. Императрица нездорова, но принимала меня.
15 августа. Писал Потаповой о газете Павлова.
* * *
Возвратился из Москвы 10 октября.
Книжка 28. (1863-1864)
Из речи Ламартина к депутации глухонемых во время Февральской революции: «Прошу передать мои чувства тем, кто меня не слышит».
Нельзя не удивляться, до какой степени нелепости может возвыситься умный народ, как французы, когда они выходят из битой колеи порядка и приличий, с которыми они срослись. И в политике, и в литературе нужны им узда и хомут. Как скоро свергли они с себя оковы «искусства поэзии» Буало и помочи, которые возложили на них Racine, Voltaire, Fenelon и другие их классики, они понесли такую чушь, что ужас. В гражданском и политическом отношении нужна им железная рука Людовика IX и Наполеона I, а за неимением ее – рука фокусника как Наполеона III.
* * *
Великой княгине Ольге Николаевне
Венеция, 3 декабря 1863
Позвольте мне почтительнейше поднести вашему императорскому высочеству фотографию моего рукоделия. Когда меня спрашивают: как могу я в такое смутное и грозное время заниматься подобными пустяками? Отвечаю: я русский человек, а русский человек пьет со скуки и с горя. Так и я, упиваюсь рифмами, чтобы запить и забыть, хотя временно, всё, что вынужден я прочесть и проглотить в газетах. Не знаю, скажут ли обо мне по пословице: пьян да умен – два угодья в нем. Но, во всяком случае, надеюсь на ваше благосклонное снисхождение к моей слабости. Я, чтобы показать вашему высочеству, что употребляю не одну сладкую водку, а иногда и горькую с приправой перца приемлю доле, как писал покойный граф Канкрин, приложил здесь две другие безделки. Великодушно простите мне винокуренное мое письмо и примите милостиво уверение глубочайшего почтения и душевной преданности, которые в совершенной трезвости духа и в полном присутствии ума и сердца повергает к ногам вашего императорского высочества ваш покорнейший и неизменный слуга.
* * *
Отправился из Венеции. Был в опере в Милане с Павлом, который мне уже заготовил ложу. Театр La Scala не отвечал моим ожиданиям и заочным о нем понятиям. Театры Петербургский и Московский грандиознее и красивее.
Певцы посредственные. Милан славится своим балетом, но мы видели только изнанку его.
Был у старого знакомца Манзони. Он показался мне бодрее прежнего. Он помолодел с восстановлением Италии. Кажется, ему за 75 лет. Он королем наименован сенатором, но в Турин и в Сенат не ездит, говорит, за старостью и за своей заикливостью. Впрочем, он редко и мало заикается. Он сказал мне: «Не все еще для Италии сделано, что должно сделать; но сделано много, и мы пока должны быть довольны».
Я немного объяснял ему польский вопрос, каким он есть на самом деле, а не под пером журналистов и под зубами ораторов и Тюльерийского кабинета. Хотя и горячий римский католик, он, кажется, довольно беспристрастно судит о нем.
Я просил фотографию его, которую видел у фотографа. Не дал, говоря, что и ближайшим друзьям, и родственникам отказывает. В прежний проезд мой через Милан просил я его дать мне строчку его автографии. Тоже отказал, говоря, что все это тщеславие, а что он, по возможности, отказался от всего, что сбивается на суетность. Но нет ли в этих отказах другого рода тщеславия? Фотография и строка почерка сделались тривиальностью. Не давать их, не делать того, что все делают, есть придавать себе особую цену. Не подозреваю Манзони в сознательном подобном умысле. Но на деле выходит так.
Больно мне было слышать, что он мало уважал характер Pellico. Бедный Пеллико, говорил он о нем в нравственном и политическом отношении.
* * *
Ответы на вопросы.
1) Граф Блудов приезжал в Москву в 1809 или 10-м году, вероятно, отправляясь в Турцию к графу Каменскому или возвращаясь оттуда. Жил я тогда с Карамзиным в Старой Басманной, в доме графа Мордвинова, то есть почти на краю города, что не мешало Дмитрию Николаевичу посещать нас почти каждый день. Не знаю, был ли он уже прежде знаком с Карамзиным; но я познакомился с ним в то время. Мне было около 18 лет, следовательно, по тогдашнему летоисчислению мало имел я голоса в капитуле. Помнится мне, он до 12-го года еще раз приезжал в Москву и провел часть зимы в доме графа Каменского; в этот раз я более с ним сблизился.
До 1831 года я не живал постоянно в Петербурге, а только наезжал туда на короткое время. Приятельские сношения мои с Дмитрием Николаевичем определились с окончательного переселения моего в Петербург. Помню, что в один из приездов в Москву он собирался с Жуковским совершить путешествие по России. Они отправились, но на первых станциях коляску их опрокинули, возвратились они в Москву, тем путешествие и кончилось. Помню еще, что около тех годов Дмитрий Николаевич прислал мне в Москву плохие стихи, написанные по случаю свадьбы его камергером Ржевским, родственником ему по Каменским, и шутя просил меня вступиться за него и написать что-нибудь на Ржевского. Позднее, хотя и по другому поводу, Ржевский получил свою поэтическую кару: он попал в комедию Грибоедова за продажу своего крепостного балета.
2) Дашков также до 12-го года познакомился с нами, то есть с Карамзиным и со мной, в подмосковной моей Остафьеве, куда приезжал с письмом от Дмитриева, тогда министра юстиции, при котором он служил и у которого жил в министерском доме.
3) Александр Тургенев кончил образование свое в Геттингенском университете и, кажется, не служил в Московском архиве, а прямо поступил на службу в Петербург. Жуковский, если не ошибаюсь, начал свою гражданскую карьеру Московской Соляной конторой (а я, гораздо позднее, – Межевой).
Служил ли он по Архиву, не знаю. Но он мне рассказывал, что в коронацию Александра I он был вместе с Дмитрием Николаевичем назначен на дежурство, кажется, на площади, при принятии билетов. Впрочем, что может дать повод к заключению, что они после сошлись по Архиву, есть то, что написали они вместе песню на одного архивского чиновника из немцев, чуть ли не Либмана.
Он был или слыл сыном портного, и содержание песни было Объяснение в любви портного. Начиналась она так, или почти так:
О ты, которая пришила
Меня к себе любви иглой,
Закрепила
Как самый крепкий шов двойной.
В нескольких куплетах собраны были все приемы и выражения, относящиеся до портняжеского ремесла, тут было: Нагрето сердце как утюг, а кончалось:
Умрет несчастный твой портной.
Эту песню видел я давно и в печати, за подписью Либмана, или что-то на это похожее, в каком-то старом песеннике. Жуковский, Александр Тургенев и Дмитрий Николаевич уже гораздо позднее сошлись в Петербурге.
4) Ближайшее общество Карамзина в Петербурге составляли одновременно и разновременно: Александр Тургенев, Жуковский, Батюшков, Дмитрий Николаевич, Полетика, Северин, Дашков, Николай Кривцов, а летом, в Царском Селе, и Александр Пушкин, тогда еще лицеист, который проводил в его доме каждый вечер. Из всех поименованных особенно нежно любил он Тургенева, Жуковского и Дмитрия Николаевича. Дашкова он также любил и уважал, но Дашков имел в уме и характере что-то резкое и несколько крутое, менее сочувственное мягкой и благодушной природе Карамзина.
5) Уваров, сколько мне известно, не был москвичом. В молодых летах был он в Вене при нашем посольстве. Сблизился он с нами гораздо позднее. В особенной приязни с Карамзиным не был, хотя и был в приятельских отношениях.
6) Начало Арзамасского общества следующее: князь Шаховской написал комедию Липецкие Воды (еще прежде написал он на Карамзина комедию Новый Стерн). В Липецких Водах выставил он балладника, то есть Жуковского.
Разумеется все наше молодое племя закипело и вооружилось. Дмитрий Николаевич написал Видение в Арзамасе (желательно было бы отыскать его).
Подобное тому, что аббат Morlet написал под заглавием La Vision, вследствие комедии Les philosophes, в которой Palissot выставил многих из тогдашних энциклопедистов.
Дашков написал и напечатал в Сыне Отечества письмо к новейшему Аристофану и куплеты с припевом: «Хвала тебе, о Шутовской». Я разлился потоком эпиграмм и, кажется, первый прозвал Шаховского Шутовским, как после и Булгарина окрестил в Фиглярина и Флюгарина.
Это Видение в Арзамасе и передало нашему литературному обществу свое название. Деятельными учредителями, а после и ревностными членами были Дмитрий Николаевич, Жуковский и Дашков.
Я тогда жил еще в Москве. Наименованный членом при самом основании его, начал я участвовать в нем позднее, то есть в 1816 году, когда приезжал я в Петербург с Карамзиным, который привозил восемь томов своей Истории в рукописи, для поднесения императору.
В уставе общества было сказано, между прочим, следующее: «По примеру всех других обществ, каждому нововступающему члену Арзамаса подлежало бы читать похвальную речь своему покойному предшественнику; но все члены нового Арзамаса бессмертны, и так, за неимением собственных готовых покойников, новоарзамасцы положили брать напрокат покойников между Халдеями Беседы и Академии».
Протоколы заседаний, которые всегда кончались ужином, где непременным блюдом был жареный гусь, составлены были Жуковским, в них он давал полный разгул любви и отличной гениальности своей, и способности нести галиматью.
Все долго продолжалось одними шутками, позднее было изъявлено желание дать Обществу более серьезное, хотя исключительно литературное направление, и вместе с тем издавать журнал. Кажется, граф Блудов составил новый проект устава. Но многие члены разъехались, обстоятельства изменились и все эти благие намерения преобразования остались без последствия.
Самое Общество умерло естественной смертью или замерло в неподвижности, остались только дружеская связь между членами и употребление наших прозвищ в дружеских наших переписках.
Карамзин писал об этом Обществе из Петербурга в Москву к жене своей: «Здесь из мужчин всех любезнее для меня Арзамасцы, вот истинная русская академия, составленная из молодых людей умных и с талантом».
Для подробностей и хронологических справок обо всем этом можно обратиться к Запискам Вигеля. Один экземпляр их хранится в императорской Библиотеке, а другой, как я слышал, куплен Катковым у наследников. Вероятно, все эти справки и подробности там находятся и могут служить руководством, хотя в сущности эти Записки, может быть, и подлежат иногда сомнению для тех, которые знали характер и пристрастие автора.







