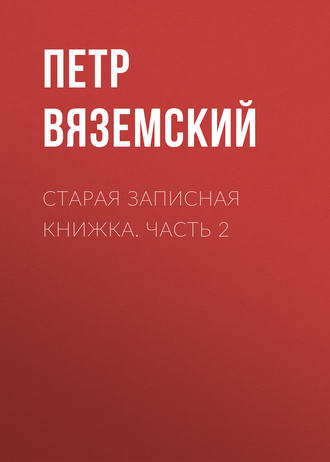
Петр Вяземский
Старая записная книжка. Часть 2
21-го обедали мы у Дмитриева со слепцом Молчановым. В министерстве они не ладили. Одно утро собрались у нас с Пушкиным: Бартенев-Костромский, Сергей Глинка, Сибилев, Нащокин Павел Воинович.
Возвратился я сюда 23-го. Вчера обедали у нас два Олениных.
Мюссе говорит, что поэзия хороша, но музыка – лучше. Мне тоже приходило в голову утверждать превосходство музыки над живописью – тем, что ангелы не живописуют, а воспевают славу Всевышнего.
3 сентября, Остафьево
Последние дни августа провел в Москве.
Был бал 26-го у князя Сергея Михайловича (Голицына). Странно, что был бал у него, но и то странно, что у куратора не было ни одного члена университетского. Голицын – как шталмейстер, который конюшней заведует, но лошадей к себе не пускает. Великий князь был на бале. 28-го был бал подписной в доме Дурасова.
Говоря о возможности войны и о том, что будто предложен был вопрос: нужно ли объявить войну? – слепец Молчанов сказал мне, что если он был бы в этом совете, то отвечал бы, что задача самого вопроса заключает в себе ответ и отрицание. Когда спрашивается, что должно ли начать войну, то уже верно, что не должно; ибо в случаях обязательства воевать в силу договора или в случаях вторжения неприятельского в границы, тут нечего и спрашивать.
28-го ездил представляться великому князю.
3 октября, Остафьево
Сегодня минуло две недели, что я узнал о существовании холеры в Москве. 17-го вечером приехал я в Москву с Николаем Трубецким. Холера и парижские дела были предметами разговора нашего. Уже говорили, что холера подвигается, что она во Владимире, что учреждается карантин в Коломне. Я был убежден, что она дойдет до Москвы. Зараза слишком расползлась из Астрахани, Саратова, Нижнего, чтобы не проникнуть всюду, куда ей дорога будет.
18-го меня давило какое-то предчувствие. Вечером был я у Кутайсова, где нашел Льва Перовского, возвращающегося из Казани и далее: он следовал за болезнью, которую настигал в разных губерниях, и по наблюдениям своим уверял, что она наносная. Вообще все думали, что она поветрие, и потому и дали ей ход. Мнение его еще более подтвердило мое.
На другой день поехал я к Николаю Муханову, чтобы узнать о действиях холеры и Закревского, проехавшего через Москву, – о средствах защищаться против неприятеля, если он приступит. Нашел я у него Маркуса и узнал, что неприятель в Москве, что в тот же день умер студент, что умерло в полиции несколько человек от холеры. Меня всего стеснило, и ноги подкосились.
Отсутствие жены, поехавшей к матушке, неизвестность, что благоразумнее: перевезти ли детей в Москву или оставаться в деревне, волновали и терзали меня невыразимо. Наконец, решился я на Остафьево. запасся пиявками, хлором, лекарствами, фельдшером и приехал вечером в деревню. До нынешнего дня лихорадка сомнений, тоска держат меня.
В день отъезда моего из Москвы забежал к Яру съесть кусок на дорогу, нашел Веневитинова, Зубкова и московского откупщика Мартынова. Говорил с первым о моих сомнениях, что делать: перевезти ли детей в Москву или нет, и о сожалении, что мой дом в наймах; говоря, что, кабы не это, я переехал бы с детьми тотчас в Москву. После обеда откупщик этот мне предложил верхний этаж дома Киндякова, им нанимаемого, если я только соглашусь подвергнуться строжайшим карантинным мерам, которые он в доме своем предпримет, если болезнь установится в городе. После получил я в Остафьеве записку от Веневитинова, предлагающего мне также несколько комнат в доме своем. Это происшествие доказало мне, что я не мог бы быть нигде правителем.
У меня много решимости в предначертании плана, но в самую минуту эту чувствую, что недостает силы, чтобы поддержать исполнение оного не в отношении к себе, а в отношении к другим. У меня нет силы повелительной. Впрочем, и то сказать, что в службе, вероятно, имел бы я более энергии и имел более средств принудить к повиновению. Теперь нет у меня никого, кому мог бы я передать свои приказания с уверенностью, что они будут в точности исполнены; и эта неуверенность расслабляет волю.
Приехав в Остафьево, горячо принялся я за учреждение предохранительных мер всякого рода, но не все выдержал. Повиновение не внушается разом: нужно взрастить его в привычках повинующихся. Мы с женой ездили к Четвертинским и на Калужской дороге встретили мужиков, возвращающихся из Москвы, они кричали нам: мор.
4 октября
В эти две недели прочел я Записки кардинала Ретца; что за путаница (inbroglio), что за бессвязная сцена вся эта драма Фронды. Волокитство и пронырство, галантство и интриги были душой ее. Под конец так запутаешься в множестве лиц, в многочисленности мелких действий и побуждений, что потеряешь и нить.
Всего замечательнее в этой книге политические и характеристические апофегмы автора. Из них можно составить катехизис в пользу возмутителей. Парижское население действовало против Мазарини, как ныне против Полиньяка. Но ныне более благоразумия в поколении. Тогдашнее и самые главы возмущения действовали как дети. Определяли начала, учреждали меры, приводили их в действие самыми крутыми способами и пугались последствий. Самый Ретц не знал, чего хотел, не говоря уже о принцах.
Прочел я и Granby roman fashionable («Гренби, фешенебельный роман»). В самом деле, читая этот роман, думаешь, что переходишь из гостиной в гостиную. Нет ничего глубокого, нового в наблюдениях, но много верности. Кажется, если написать мне роман, то в этом роде. Тут нет и ткани плотно сотканной, а просто перемена лиц и декораций. В переводе сказано, что роман сочинения лорда Норманди, а в Globe сказано, что от лорда Riddlesdale.
6 октября
Вчера писал князю Д.В. Голицыну о грабительстве кордонных казаков, которые за деньги пропускают из города и впускают.
Приезд государя в Москву есть точно прекраснейшая черта. Тут есть не только небоязнь смерти, но есть и вдохновение, и преданность, и какое-то христианское и царское рыцарство, которое очень к лицу владыке.
Странное дело, мы встретились мыслями с Филаретом в речи его государю. На днях в письме к Муханову я говорил, что из этой мысли можно было бы написать прекрасную статью журнальную. Мы видали царей и в сражении. Моро был убит при Александре, это хорошо, но тут есть военная слава, есть дело чести (point d'honneur): нося военный мундир и не скидывая его никогда, показать себя иногда военным лицом. Здесь нет никакого упоения, нет слаболюбия, нет обязанности. Выезд царя из города, объятого заразой, был бы, напротив, естественен и не подлежал бы осуждению; следовательно, приезд царя в таковой город есть точно подвиг героический. Тут уже не близ царя близ смерти, а близ народа близ смерти.
Я прочел Mes pensees («Мои мысли») Лабомеля, которого знал доныне по щелчкам Вольтера. Он совсем умный человек. Многие из политических мыслей удивительны по тогдашнему времени. В них есть предвидение. К тому же он знал тогда, чего не знали французы: Европы. Он говорит о Пруссии, Швеции, Англии. Вот некоторые из его мыслей: «Военное правительство полно энергии, но оно отличается и бесплодностью: начинает с того, что возвышает империю, а кончает тем, что сводит ее на нет. Как лекарство, сначала дающее силы больному, а потом отнимающее жизнь.
О могуществе государя говорит число людей, поставляемое в армию, а о слабости – качество этих людей.
Похвалы глупца не должны бы льстить мне, однако льстят почти так же, как похвалы умного человека; расточая мне похвалы, глупец действует как умный человек, а умный – лишь выказывает справедливое отношение.
Хладнокровие для политика – что вдохновение для поэта.
Россия – гигант в оковах; ее боятся больше, чем она того заслуживает.
Определение английской конституции: при ней все могут все.
Большинству государств следовало бы иметь на месте правителя хорошего банкира.
В стране, где не позволено иметь благородное сердце, не будет и умных людей.
Христианская религия смягчает нравы, но разве она не приводила в отчаяние мужество?»
Наполеон говорил, что он посадил бы Корнеля в свой государственный совет; здесь почти та же мысль: «Один иностранец, узнав, что Корнель не министр, стал говорить: «Если бы я был королем…» – «Если бы вы были королем, вы управляли бы государством так же плохо, как собственным домом!»
В моем издании Лабомеля (7 изд., Лондон 1727) много пропусков, точек, начальных букв. Должно поискать другое.
14 октября
Я в этот день прочел театр Дидерота и его драматические рассуждения. Le Fils naturel («Побочный сын») просто скучен. В отце семейства больше жизни и движения, но все – и то, и другое – проповеди в действии. В рассуждениях его больше драматического, чем в драмах, а в драмах более рассуждений, чем драматического. Иное в них темно и ничего не имеет существенного, но многое сближается с природой, или с романтической драмой, хотя он и сидит на трех единствах.
Читал и Записки князя Шаховского. Занимательны, но не дописаны. Наши авторы все жеманятся, боятся наскучить читателям и потому неудовлетворительны. В аналистах одно скучно: сухость. Или аналист без ума и дарования, тогда читать его нечего; или он с умом и есть ему что порассказать, и тогда скромность его, малоречивость досадна. Как, например, Шаховскому не проболтаться про Бирона, Миниха (о Шуваловых, например, сказал довольно: тут за живое задирало). Как ему не подробнее описать было конференции министров, которые при Елисавете заключали перемирие без ведома ее. Вот что был тогда самодержец. Со всем тем Шаховского Записки – одна из занимательных русских книг. Вот дюжина таких книг, и у нас были бы основы для исторических романов, комедий.
24 октября
Сочинения и переводы Перевощикова – хорошая книга. Он писатель мыслящий. Жаль только, что он предпочитает другой прозе прозу Ломоносова, Хераскова, Шишкова. Прозу Шишкова? Как будто это проза, как будто есть у него слог? Право, даруемое иным писателям, освобождать себя от цензуры в государстве, где существует цензура, похоже на право, которое бы дали некоторым лицам, проезжать карантины, не подвергаясь установленному очищению. Или нужна цензура, или нужны карантины, или нет. Если нужны, то какие допустить различия.
30 октября
Соберите все глупые сплетни, сказки, и не сплетни, и не сказки, которые распускались и распускаются в Москве на улицах и в домах по поводу холеры и нынешних обстоятельств, – выйдет хроника прелюбопытная. В этих сказах и сказках изображается дух народа. По гулу, доходящему до нас, догадываюсь, что их тьма в Москве, что пар от них так столбом и стоит: хоть ножом режь. Сказано: литература является отражением общества, а еще более сплетни, тем более у нас; у нас нет литературы, у нас литература изустная. Стенографам и должно собирать ее. В сплетнях общество не только выражается, но так и выхаркивается. Заведите плевальник. (Из письма к Николаю Муханову. Пишу о том А. Булгакову.)
31 октбяря
В самом деле любопытно изучать наш народ в таких кризисах. Недоверчивость к правительству, недоверчивость совершенной неволи к воле всемогущей оказывается здесь решительно. Даже и наказания Божии почитает она наказаниями власти. Во всех своих страданиях она так привыкла чувствовать на себе руку владыки, что и тогда, когда тяготеет на народе Десница Вышнего, она ищет около себя, или поближе под собой, виновников напасти.
Из всего, изо всех слухов, доходящих до черни, видно, что и в холере находит она более недуг политический, чем естественный, и называет эту годину революцией. Отчета себе ясного в этом она не дает, да и дать не может, но и самое суеверие не менее веры нужно иногда.
То говорят они, что народ хватают насильно и тащат в больницы, чтобы морить, что одну женщину купеческую взяли таким образом, дали ей лекарства, она его вырвала, дали еще, она тоже, наконец, прогнали из больницы, говоря, что с ней, видно, делать нечего: никак не уморишь.
То говорят, что на заставах поймали переодетых и с подвязанными бородами, выбежавших из Сибири несчастных 14-го; то, что убили в Москве великого князя, который в Петербурге; то, что какого-то немецкого принца, который никогда не приезжал. Я читал письма Остафьевского столяра из Москвы к родственникам. Он говорит: нас здесь режут как скотину.
3 ноября
Я перечитывал Жизнь Бибикова. Занимательная книга, и если сын героя, автор, не так бы патриотизировал, то и хорошо писанная. Много любопытных фактов. Как мы пали пухом со времен Екатерины, то есть со времени Павла.
Какая-то жизнь мужественная дышит в этих людях царствования Екатерины. Как благородны сношения их с императрицей; видно то, что она почитала их членами государственного тела. И самое царедворство, ласкательство их имело что-то рыцарское: много этому способствовало и то, что царь была женщина. После все приняло какое-то холопское унижение.
Вся разность в том, что вышние холопы барствуют перед дворней и давят ее, но перед господином они те же безгласные холопы. Возьмите, например, Панина и Нессельроде… В тех ли он сношениях с царем, в каких был Панин с Екатериной. Воля ваша, а для России нужно еще и физическое представительство в своих сановниках. Черт ли в этих лилипутах? Слова Панина, сей итог деспотизма: «Знайте же, что при моем дворе велик лишь тот, с кем я говорю и лишь пока я с ним говорю», – сделались коренным правилом.
При Павле, несмотря на весь страх, который он внушал, все еще в первые годы велись несколько екатерининские обычаи; но царствование Александра, при всей кротости и многих просвещенных видах, особливо же в первые годы, совершенно изгладило личность. Народ омелел и спал с голоса. Все силы оставшиеся обратились на плутовство, и стали судить о силе такого-то или другого сановника по мере безнаказанных злоупотреблений власти его. Теперь и из предания вывелось, что министру можно иметь свое мнение.
Нет сомнения, что со времен Петра Великого мы успели в образовании, но между тем как иссохли душой. Власть Петра, можно сказать, была тираническая в сравнении с властью нашего времени, но права опровержения и законного сопротивления ослабли до ничтожества. Добро еще, во Франции согнул спины и измочалил души Ришелье, сей также в своем роде железнолапый богатырь, но у нас кто и как произвел сию перемену? Она не была следствие системы – и тем хуже.
7 ноября
В Коломне, сказывают, был бунт против городничего, объявившего, что холера в городе, а чернь утверждала, что нет. Городничий скрылся. Губернатор приезжал исследовать это дело. Никто более моего не готов признать истину правила Jacotot: tout est dans tout (все во всем).
Составляя биографию Фон-Визина, я нашел в бумагах его письма Бибикова. Это дало мне мысль перечитать жизнь его, написанную сыном. Роль, игранная им в Польше, побудила меня коснуться в Histoire des trois demembrements de la Pologne par Ferrand («Историю трех разделов Польши» Феррана), там в жизнь Екатерины, там взять Histoire de mon temps («Историю моего времени») Фридриха Великого. Между прочим, пробежал я, все по поводу Фон-Визина, драматургию Шлегеля, «Историю полуденной литературы» Сисмонди, драматические рассуждения Дидерота, Вольтера, Лагарпа, Мармонтеля, множество русских старых книг. Вот каким образом очерк действия моего расширяется и часто касается вдруг противоположных берегов. Жаль, если не сумею после перенести в свой труд запах моих дальних странствований, окурить его общим интересом. По крайней мере исправляю свое дело по совести, и кажется, мои писания не должны быть безуханны, как многие у нас. Но все чувствую, что недостаток фунта положительных, готовых познаний должен вредить глубокому укоренению и плодовитости моих прозябаний.
21 ноября
Прочел Le Cid, со всем процессом его, критикой Скюдери, замечаниями академии etc. В суждениях Скюдери много справедливого, но много и глупого, грубого.
Разумеется, нельзя допустить, чтобы Химена виделась с убийцей отца своего полчаса спустя после убийства; но в этом погрешность классической трагедии. Скюдери толкует, Корнель оправдывается, Вольтер защищает, но все они вертятся около истины и не дощупываются больного места. Галиани прав, Вольтер несносен в комментариях своих на Корнеля. Он походит в них на старого французского учителя, замечает, что такое-то выражение, такое-то слово более не в употреблении. Странное дело, что Вольтер, который хотел поставить вверх дном небеса со всеми в них живущими, так и дрожит на каких-то правилах, условиях, бледнеет от слова, которое покажется ему не нынешним.
По мне лучшая сцена в «Сиде» есть вызов Родрига отцу Химены. Все прочее натянуто. Химена, которая поочередно переходит or негодования к любви, от требований мести к изъяснениям в нежности, похожа на шашку, которая переходит на шашечнице с белого места на черное. Конечно, в этом положении много драматического, но все это у Корнеля слишком резко.
Дон-Санчо, Принцесса – такие жалкие творения, что стыдно глядеть на них, и, кажется, кем-то уже было замечено, что если классики допускают сокращение или превращение 24 часов в два часа, то почему же не распустить еще эту свободу на год, на два и так далее. Вы говорите зрителям: представьте себе, что пришли сюда просидеть сутки: если они поддаются на это предложение, если воображение их содействует вашему обману, то не станут спорить они и за продолжительнейший срок. Если вы успеваете уверить их, что 24 – не 24, а два, или что два – не два, а 24, то почему же сверхестественнее, что два – две тысячи или два миллиона. Допуская воображение в числа, допуская, что дважды два не четыре, уж все равно – вывести в итоге 24 часа или двадцать четыре года. Классический ящик точно гроб: иначе не вложишь в него героя, как мертвого без движения. Пока еще герой волен в движениях, может идти себе направо и налево, классическому гробу до него дела нет. Но когда приставят к нему ко рту аристотельское зеркало, и оно не потускнеет от дыхания, тогда милости просим гробовых дел мастера снимать с него мерку, состроят гроб, положат его и украсят своими парчовыми покровами.
28 ноября
Отправлено через Подольск письмо к Кавериной с предложением отцу писать свои записки. Я всех вербую писать записки, биографии. Это наше дело: мы можем собирать одни материалы, а выводить результаты еще рано.
1 декабрь
Все это время читал или перелистывал: хроники парижские, современные пребыванию Фон-Визина, Гримма переписку, 1787, Даламбера etc.
«Он умен и имеет крепкую хватку, но не вполне владеет тайной, как можно совершенно высмеивать людей» (Вольтер Даламберу о Линге).
Точно есть предчувствие, есть какой-то запах внутренний того, чего еще не знаешь, но нужно узнать вскоре. Вчера просыпаюсь, а умом своим перенесся в Варшаву без всякой причины; приходило мне в голову, что, может быть, я сближусь с великим князем, что в случае смерти или перемещения Моренгейма могу занять его место. Я фантазировал потому, что никогда не думаю серьезно быть опять на службе в Варшаве. То приходило мне на мысль написать письмо M-me Вансович, с которой я никогда не был в переписке. Через час получаю почту и известие о варшавских происшествиях.
Из писем и из печатного донесения худо их понимаю. Подпрапорщики не делают революции, а разве производят частный бунт. 14 декабря не было революции. Но зачем верные войска выступили из Варшавы? Добро еще русские, для избежания поклепов, что неприязненные действия начаты ими, хотя в такую минуту странно думать о рецензии журналов и политикоманов, но к чему вышли и польские? На что же держать вооруженную силу, если не на то, чтобы хранить порядок и усмирять буйство? Как бросить столицу на жертву нескольким головорезам, ибо нет сомнения, что большая часть жителей, то есть по крайней мере девять десятых, не участвовали в мятеже? Что вышло бы, если 14-го государь выступил бы из Петербурга с верными поляками.
В мятежах страшно то, что пакты со злым духом, пакты с кровью чем далее, тем более связывают: одно преступление ведет к другому, или более обязывает на другое. Раскаяние, христианская добродетель, неизвестная, почти невозможная в политике…
В смерти Ж.З. из русских виден перст Провидения. Нет, такими людьми не устраиваешь нравственности народной. Разумеется, поляки пользуются выгодами, которых у нас нет. Но что же это доказывает? Крестьяне, видя, что барыня их хочет развестись с мужем, который оскорбляет ее честь, дивятся неблагодарности ее, говоря: а муж ее еще кормит белым хлебом и сажает за стол с собой. Все относительно: обиды, благодеяния. Нет общей меры на всех и на все.
Со всем тем я уверен, что все это происшествие – вспышка нескольких головорезов, которую можно и должно было унять тот же час, как то было 14 декабря. Теперь дело запуталось, потому что его запутали. Воры грабят дом, а полиция, чем унимать, отходит прочь, чтобы не сказали, что грабеж начат ею. Может быть, Антверпенская история заставила страшиться подобных же следствий; но если всего бояться, то в лес не ходить, а особливо же не управлять людьми. Должно иметь за себя совесть и не бояться тогда сплетней ни журналов, ни истории.
Раздел Польши есть первородный грех политики 24 февраля. Нельзя избегнуть роковых следствий преступления. Парад мелодрамы (Parade de melodrama).
Польши слабая струна есть национальность, и поелику поляки народ ветреный, то им довольно поговорить о национальности; играя искусно этой струной, Наполеон умел вести их на край света и на ножи. У нас же, напротив, хотят подавить, оборвать эту струну и удивляются, что дела идут нехорошо. Но когда отнять у себя единое средство действовать на кого-нибудь, то какого ожидать успеха…
9 декабря
Кажется, Заира говорит: La patrie est aux lieux ou l'ame est enchainee (родина находится в том месте, к которому прикована душа), следовательно – в России, где столько крепостных душ.
Я отгадал, что варшавская передряга будет не шекспировской драмой, а классической французской трагедией с соблюдением единства места и времени; так, чтобы в два часа быть развязке.
11 декабря
Обыкновенные наши отчеты академий, ученых обществ и т. п. – точно ведомость мирским расходам. О движениях мысли, о нравственных оборотах тут нет ни слова, а все только о деньгах. Разумеется, контроль нужен, но не он же один должен быть в виду.
Сегодня читал я краткое историческое сведение о состоянии императорской Академии Художеств: тут найдете вы о перестройке нужных мест, прачечной и проч., но не получите понятия о состоянии художеств наших, о пользе приносимой Академией. Верно, что Оленину приятно объявить, что он привел в порядок то, что было расстроено, но как ограничиваться одной материальностью. Спасибо ему за фразу: какому бы помещику ни принадлежал крепостной ученик свободных искусств.
Рассмешил он меня также своим поколенным портретом, писанным Варнеком. То-то, видно, ленивый живописец: не много стоило бы труда написать его и во весь рост.
15 декабря
Сегодня во сне имел я разговор у какого-то брата Фонвизина, при Огаревой. Я говорил, что мы не вовремя родились, желал бы я родиться шестьдесят лет ранее, или сто лет позднее. Впрочем, я писал это кому-то на днях, а вот сонная прибавка: я говорил, что мы вступили в свет, как люди, принужденные переехать в город летом на духоту, пыль и одиночество.
Начальница Севастопольского бунта, поручица Семенова, поднявшая на ноги 500 женщин. Когда на допросе спрашивали о причинах, побудивших ее к мятежу, спросила она следователя: женат ли он? На ответ отрицательный сказала она: «Вы не поймете признания моего». Двое детей ее умерли с голоду в карантине.
Записать когда-нибудь анекдот, рассказанный Фикельмоном о письме к великой княгине Екатерине Павловне, найденном австрийским генералом на бале.
Рассказывают, что большая часть сиделок в холерических больницах – публичные девки. В полицейской больнице в доме Пашкова Брянчанинов нашел девок в каком-то подвале, которых солдаты и больничные смотрители держали для своего обихода.
19 декабря
Третьего дня был у нас Пушкин. Он много написал в деревне: привел в порядок 8-ю и 9-ю главу Онегина, ею и кончает; из 10-й, предполагаемой, читал мне строфы о 1812 годе и следующих – славная хроника; куплеты: Я мещанин, я мещанин, эпиграмму на Булгарина за Арапа; написал несколько повестей в прозе, полемических статей, драматических сцен в стихах: Дон-Жуана, Моцарта и Сальери. У вдохновенного Никиты, у осторожного Ильи.
Что может быть нелепее меры велеть выезжать подданным из какого-нибудь государства? Тут какой-то деспотизм ребяческий. Так дети в ссорах между собой отнимают друг у дружки свои игрушки или садятся спиной один к другому. До какой подлости может доводить глупость?
Газеты наши говорят о расцеплении Москвы, как о милости народу, разве Божией, если в самом деле холера прекращена. Да разве оцепление была царская опала? Поэтому должно радоваться бы и тому, если каким-нибудь всемилостивейшим манифестом велено было распустить безумных из желтого дома…
Статистические взгляды на Россию. Россия была в древности варяжская колония, а ныне немецкая, в коей главные города Петербург и Сарепта. Дела в ней делаются по-немецки, в высших званиях говорится по-французски, но деньги везде употребляются русские. Русский язык же и русские руки служат только для черных работ.
20 декабря
«О люди, вы готовы быть порабощенными!» – говаривал Тиверий по-гречески, выходя из Сената. Первый Булгарин в Риме был Цепио Криспиний, а по другим комментариям Романий Гиспон.
У Тацита: «В каком месте вынесешь ты свое решение, Цезарь?» – «Если я буду первым, – отвечал он, – мне будет чему подражать; если же я буду последним, я боюсь оказаться несведущим и невеждой…» Вот почему членам царских фамилий не должно заседать в уголовных политических судах. (Из речи Кремуция Корда, обвиненного в написании истории, в которой он хвалит Брута и называет Кассия «последним из римлян».)
22 декабря
Странная и незавидная участь Б. Имея авторское дарование, он до сорока лет и более не мог решиться ничего написать. Тут вдруг получил литературную известность прологами своими к действиям палачей: «Хотя волнуемая страхом – дерзает мечтать о торжестве!» Ого, г-н классик и строгий критик! Куда это дернуло вас красноречие!
«В твердом уповании на Бога, всегда благодеющего России!» Вот фраза, формула, которую должно выкинуть бы из официального языка. Это нелепость, или поклеп на Бога, или горькая насмешка. Почему Бог более благодеет одной земле, нежели другой, и как знать нам, на чьей стороне праведный суд Его? Тут есть какое-то ханжество и кощунство. Не призывайте имени Бога вашего всуе.
Понимаю, что можно здоровому человеку привыкнуть жить с безумцами в желтом доме; но полагаю, что никак не привыкнет благородный человек жить с подлецами в лакейской. Безумием унижена человеческая природа рукой Бога: тут есть смирение и покорность воли его. Подлостью унижено нравственное достоинство человека: тут, кроме негодования, ничего быть не может. Зачем, видя детей шалунов, обвинять их одних, а не более родителей и наставников? Зачем, видя дом в беспорядке, решительно говорить, что слуги виноваты, не подозревая даже, что могут быть виноваты господин и управляющие? Зачем в печальных событиях народов, в частых преступлениях их винить один народ, а не искать, нет ли в правительстве причин беспорядка, нет ли в нем антонова огня, который распространяет воспаление по всему телу? Зачем, когда ревматизм в ноге, сердиться на ногу одну, а и не на голову, которая не думала охранять ногу от стужи или сырости, и не на желудок, который худо переваривал пищу и расстроил согласие и равновесие тела?
24 декабря
У нас странное обыкновение: за худой поступок, за поведение, неприличное званию офицера, выписывается офицер из гвардии в армейский полк. Можно сказать, что и с П. так же поступили. Тот сам признал свою неспособность. Ну так выйди в отставку; нет, дома он не годится, мы наградим им других, а после того удивляются.
На беду у нас истории не читают: хоть бы, читая ее, при общем молчании, мороз подирал по коже их, думая, что о них скажет потомство.
Кстати вспомним стих Сумарокова: «Молчу, но не молчит Европа и весь свет». И потомство – молчать не будет. Впрочем, в этом отношении они счастливы. Ничтожество надежда преступников. Ничтожество отрада и невежд. Для них нет страшного суда ума и истории, нет страшной казни печати. Могла ли остановить пашу Янинского мысль, что Пукевиль будет доносчиком на него перед вселенной. Непонятная казнь не страшит нас. Потому, может быть, и изобрели ад с огнем, кипящей смолой и прочими снадобьями, а то настоящего ада, может быть, никто и не испугался бы. Царедворцу выше всех наказаний быть лишенным лицезрения царского; а сколько счастливцев уездных, которых не опечалишь тем, что не видать им царя как ушей своих. Все относительно.
Все мои европейские надеждишки обращаются в дым. Вот и Benjamin Constant умер, а я думал послать ему при письме мой перевод «Адольфа». Впрочем, Тургенев сказывал ему, что я его переводчик. Редеет, мелеет матушка Европа. Не на кого будет и взглянуть. Все ровня останется.
27 декабря
Прокламация великого князя: «Я удаляюсь в поход с войсками и, положась на польскую честность, я надеюсь, что войска не встретят препятствий при возвращении в империю», – род признания того, что случилось.
7 января 1831
4-го приезжали в Остафьево Денис Давыдов, Пушкин, Николай Муханов, Николай Трубецкой. Элиза говорила о себе: «Как исключительна моя судьба, я еще так молода и уже дважды вдова».
В Тамбове возмущение было не на шутку. Говорят, Загряжский тут действовал усмирителем бури.
14 сентября 1831
Вот что я было написал в письме к Пушкину сегодня и чего не послал.
«Попроси Жуковского прислать мне поскорее какую-нибудь новую сказку свою. Охота ему было писать шинельные стихи (стихотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздравительными одами) и не совестно ли
«Певцу во стане русских воинов» и «Певцу в Кремле» сравнивать нынешнее событие с Бородиным? Там мы бились один против 10, а здесь, напротив, 10 против одного. Это дело весьма важно в государственном отношении, но тут нет ни на грош поэзии. Можно было дивиться, что оно долго не делается, но почему в восторг приходить от того, что оно сделалось. Слава Богу, русские не голландцы: хорошо им не верить глазам и рукам своим, что они посекли бельгийцев. Очень хорошо и законно делает господин, когда приказывает высечь холопа, который вздумает отыскивать незаконно и нагло свободу свою, но все же нет тут вдохновений для поэта. Зачем перекладывать в стихи то, что очень кстати в политической газете».
Признаюсь, что мне хотелось здесь оцарапнуть и Пушкина, который также, сказывают, написал стихи. Признаюсь и в том, что не послал письма не от нравственной вежливости, но для того, чтобы не сделать хлопот от распечатанного письма на почте.







