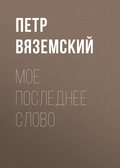Петр Вяземский
Письма из Парижа (1826-1827)
В примечании соотечественник наш распространяется в похвальнейших отзывах о комедии Аристофань и жалеет, что г-н Ансело не знает её, потому что она истинно мастерское творение (un véritable chef-d'oeuvre). Во всех этих замечаниях о театре нашем, кажется, возразитель имел в виду более Французов, чем Русских, и был увлечен патриотизмом, извинительным перед чужими. Дома можно указать на некоторые обчеты в исчислениях его. Где эти сто трагедий, которые играют на театрах наших? Где наши подражания Немецким и Английским трагедиям? За исключением Орлеанской Девы, нет ни одного. Литтературные бюджеты, как и другие, не всегда верны при проверке действительности, и тут часто на бумаге много, а на лицо мало. В трагедиях Озерова только одна народная, и та не лучшая; Крюковского трагедия, будь сказано между нами, довольно слабая Французская трагедия, в которой много прекрасных Русских стихов. Комедия Грибоедова не есть еще принадлежность Русского театра и, следовательно, не может здесь идти в дело. В Полубарских Затеях много забавного, но комедия сама по себе не образцовая. Париж видит ежемесячно на маленьких театрах своих явления такого рода. Транжирин – переделанный на Русские нравы Мольеров: Мещанин во дворянстве; только у Мольера более истинного остроумия и комической соли. Комедия Аристофан также еще не напечатана и потому рано говорить о ней критически; но, кажется, можно без греха сказать заранее, что это творение, совершенно Греческое на Русском театре, было бы совершенно Русским на Греческой сцене. Впрочем, все это, повторяю, будь сказано между нами: Французам это не нужно знать. Чего их жалеть? Пиши более! говорил Суворов при составлении реляций о потерях неприятельских. Можно сказать: пиши более! чего их совеститься? когда считаешь богатства свои перед иностранцами. Только беда в том: у Французов есть книга под названием: Иностранный театр; в нем бедность наша наголо и нам нельзя уличить их в злонамеренном обнажении. Они вывели нас, в чем застали.
«На поверку», говорит наш соотечественник, заключая книжку свою следующими словами: «должно по справедливости признать некоторое достоинство в книге г-на Ансело. – Но он сам почувствует, надеюсь, что книга, почти экспромтом написанная во время шестимесячного пребывания посреди вихря празднеств, не может иметь права на совершенство. Я не сравню его с толпою других путешественников, которые, пробыв несколько лет в России, вывозят из неё воспоминания ненавистные, не находят в ней ни единой добродетели, ни единого доброго качества, и чтобы казаться более интересными, спешат унизить и оклеветать тех, у коих обрели они искренное благородное гостеприимство.
Но если бы мне случилось писать о нравах и обычаях народа какого бы ни было, не вдаваясь в общие применения, я строго устранял бы исключения и не терял бы из вида, что мы все человеческого рода и друг другу подобны, не смотря на легкие оттенки.
Впрочем, дай Бог, чтобы все те, кои пишут, или будут писать о России, походили в отношения дарования и праводушие на г-на Ансело. Но, повторяю, пускай не торопятся они, чтобы не заслужить упрека в пристрастии или легкомыслии. Книге г-на Ансело не достает, без сомнения, одной зрелости, а она приобретается только долгим пребыванием; и потому почитаю себя в праве заключить тем, что шести месяцев не довольно, чтобы узнать государство».
А тебе довольно ли моих писем, чтобы узнать книгу г-на Ансело?
Г. Р.-К.
Примечание. В Телеграфе подписывал я иногда статьи мои этими тремя буквами, чтобы сбивать с толку Московских читателей. Эта подпись должна была означать приятеля моего Григория Римского-Корсакова, очень всех в Москве известного. Сам он не был литтератором, но был вообще литтературен, любознателен и в приятельской связи с образованнейшими людьми своего времени. Он несколько годов провел во Франции и в Италии: и по возможности изучил политические и общежительные свойства той и другой страны. Другие статьи в том же Телеграфе подписывал я буквою А, что означало Асмодей, мое Арзамасское прозвище. Бывали статейки мои и за подписью Журнальный сыщик. Но здесь встречались и контрафакции, подделки. Сам издатель Телеграфа, или другие, тайные по особым поручениям чиновники его, подписывались под мою руку. Так, что я, перелистывая Телеграф, не могу теперь заподлинно знать про иную статью, моя ли она, или нет. Подобные мелкие журнальные неприятности, а более всего крутой переворот в литтературном направлении самого издателя, побудили меня совершенно отстраниться от всякого участия в Телеграфе.