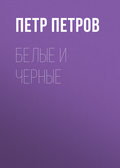П. Н. Петров
Царский суд
Всеисцеляющее время изменило бы, может быть, суждение Глаши о поступке Субботы, но последовавшая скоро страшная трагедия, как увидим мы потом, чуть не погубившая ее самую, заставила своей страшной действительностью забыть боль сердца.
Между тем Данила Микулич, после трех месяцев нахождения между жизнью и смертью, поднялся с одра, при выздоровлении испытав новое горе. Воротясь домой из Деревяниц, он не нашел жены и не знал, где искать ее среди картин общего ужаса, царившего в Новагороде в дни недуманного-негаданного разгрома, подготовленного двумя мошенниками.
X
Пожар от искры
Ватажник был не в себе, увидав, как легко соскользнули все путы его с окрученного Субботы. Злость свою на неудачу он срывал на земских мужиках. Эти даровые работники никак не могли угодить на взыскательного указчика, ругавшегося самым язвительным образом и щипками да пинками награждавшего направо и налево, привязываясь ни к чему. Покорные не заявляли жалоб, не гонясь за лишним толчком и зная, что жалоба не примется или не получит хода, а злость обидчика зато может еще пуще разразиться. Ставили теперь на телеги покрышки, мазали или красили кузова и колеса да пригоняли сбрую на тройки. Весь обширный деловой двор государев в Калымажниках кипел народом, все отборными молодцами. Не таким бы деловым людям указывать дурню ватажнику да мудровать! Да что поделаешь с начальством: палку поставят – и ту слушайся! Качали кудрявыми головами на приказы самодура управителя, а делали, что велит он. А он еще ехиднее издевался над трудом да над потом людским, грозя, величаясь да отвешивая удары кнутовищем по спине и по плечам без разбору. А сам только покрякивал себе да чаще заливал глотку горячим вином, приносимым в ковше с кабака по наказу воеводскому без задержки.
И долго бы, может быть, еще, пожалуй, продолжал буйствовать ватажник, представляясь важным господином, если бы не привлек внимание его какой-то пришлый, который, стоя у ворот, принялся бить ему чуть не земные поклоны. Смотрел-смотрел ватажник на эти поклоны да встал и сам подошел к поклоннику. Видимо, польщенный униженным к себе обращеньем, поднял его и спросил ласково:
– Ко мне, что ли?
– К милости твоей, коли изволишь выслушать один на один.
– А здеся нельзя, что ль, высказывать тебе до меня нужду?
– Не приходится. Людно, да и помеху могут чинить.
– А до меня нужда? – еще переспросил ватажник в раздумье.
– До тебя, государь милостивый, до одного, ни до кого прочего, воистину.
– Ин быть по-твоему: коли ко мне – пойдем!
И, к полному удовольствию рабочих, ватажник исчез с пришлецом.
– Никак, с Петрухой, с Волынцем, окаянной-от наш провалился?.. – выговорил один рослый кузнец, заприметивший поклоны низкопоклонника еще раньше, чем ватажник обратил на него внимание.
– Какой такой Петруха еще выискался? – спрашивать стали другие колымажники. Они были очень довольны, что случай дает возможность расправить спины, согнутые с утра над спешной работой.
– Петруха-то кто?
– Ну да!
– Проходим один, премерзкий самый человечишка, воришка и ябедник… Его в ту седмицу шелепами били посадские старосты: с овцой словили…
– Вор вора и знает!.. – решили недовольные ватажником, услышав, кто такой Петруха.
Ватажник же составлял в это время очень лестное мнение о своем низкопоклонном просителе. Прежде всего, ум его, настроенный видеть все в черном свете, встрепенулся и пустился работать усиленно, найдя подспорье для кляузы. Называемый кузнецом Петрухой был человек на все руки, имевший сотни других прозваний. В каждом новом месте он иначе назывался – и только в Новагороде выдавал себя за Волынца. Под этим именем проделки его не сошли, однако, так легко, как в других местах. И то сказать, неудача здесь была следствием самых скверных обстоятельств: не было у него по приходе сюда ни шелега в мошне. Крайность эта заставила действовать очертя голову и не разбирая средств. Он и принялся воровать плохо лежащее, на первых порах наполнять кошель свой. Это ему удалось. Первые посещения слободок отдаленных дали ловкому Петрухе поживу, по тому времени немалую. Легко сказать, сорок алтын чистой выручки на базаре за некупленный товар! На сорок алтын приобрел изворотливый малый воз баранок с тележкой – и пустился в торговлю. Опять было повезло. К баранкам в качестве закуски стал возить Петруха винцо горячее – и уже считал рублишки чистоганом; да грех попутал: отказал ярыге в даровом угощенье. А тот бросился на воз да и ущупал вино. Крикнул: «Вор!» Народ сбежался. Воз отняли и самого повели в корчмную избу. Подьячий наедине попросил срывку на усмирение смуты людской. Петруха посулил овцу. Он видел у попа дня за два, в слободке одной на погосте овец пар десять, и больно ему полюбились эти самые овечки. Подьячий верное слово дал, что все успокоит за овечку.
– Робяткам, – говорит, – занятна будет ярочка!..
Петруху отпустил на свой страх. Молодец и шасть на погост. Овцы там, видит. Подобрался было к одной. Хвать – да как взвизгнет не своим голосом. Черт подсунул собаку, злющую-презлющую. Подметила она, должно быть, ворога да и насторожилась. Он за овцу, она – за мягкие места вцепилась, рвет да идти не дает. На крик народ сбежался: погост с селом вместе. Схватили и представили. Все плутни открыли, да и за корчемство тут же прикинули: отваляли шелепами на славу, так что неделю-другую валяться пришлось Петрухе. Обмогся, однако, крепок был ворог; пошел именем Христовым просить. Прогнали из Антоньева монастыря – тать, говорят, заведомый. Разобрала злость человека: дай, думает, какую ни на есть пакость учиню духовному чину! Стал ходить в ряды: плясать да песни играть смехотворные, ругательные на чернецов да на власти. Сперва алтын шесть дали купцы; зубоскалы попались, видно. Наутро попадись Петруха к старым мироедам. Те слушали-слушали да велели молодцам проводить в шею. Привязался Петруха к озорникам, ярыгу подхватил: за увечье стал просить в новагородском приказе. Вызвали со старостами обвиняемых. А те в оправданье брякнули, за что прогоняли. Тут уж старосты сами полезли к воеводе – просить озорника поучить почувствительнее. Воевода сдался: купчиха велела. Схватили доброго молодца да повели в колодничью. Он подобру-поздорову тягу дал от понятых да и попал на ватажника. Ему былую сказку рассказал про новгородское воровство. Все скопом, вишь, хотят крестное целование нарушить, передаться Жигимонту, польскому крулю, отбегая от милостивой царской десницы Богом венчанного государя и великого князя Ивана Васильевича. Ватажник понял, что его особу доносчик принимает за опричника Осетра, и не счел нужным указывать на ошибку, да сам, поддерживая еще уверенность в этом, охотно соизволил спрятать у себя открывателя важной тайны.
– Ужо все вы, вороги, запляшете у меня под плетью: и воевода, и скупяги купецкие люди, и ты, верхогляд-озорник мой самозваный, господин начальный! Как эту вяху державному поднесем: изменяет тебе, великому государю, весь Новагород, со воеводами, и со властями, и с посадскими людьми, и с торговыми… Все заодно, мол, стоять взялись и зарок положили – друг друга ни за что не выдавать. С умыслом молчать будут али в один голос кричать: «Знать не знаем!» И твой опричник Осетр с воеводой в согласии. Молчать обещал, чтоб покрыли его воровство, как он дьяка медведем задрал.
И весело стало так на душе у ватажника. Горящие глаза его издалека зарились на щедроты царские за донос. Да, чего доброго, перепадает немало и из животов казненных?.. Только бы поверили доносу-то нашему!
Внезапная мысль вдруг бросила в холод начавшего погружаться в самоуслаждение грядущими благами.
– А чем докажешь ты, что не выдумал этой измены всего города? – вдруг спросил ватажник доносчика.
И тот в свою очередь тоже почувствовал удар с такой стороны, откуда он всего меньше ожидал. А потому, не приготовившись, отвечал первое, что на ум пришло:
– Я первый в пытку пойду, что все подслушал и твердо запомнил.
– Да еще до пытки далеко! Не она утвердит решимость тебе поверить, а очевидные доказательства измены, на письме, к примеру…
– И так можно! На грамоте напишем и подадим.
– Мы подадим – все испортим! Нужно указать, что у них приговор спрятан, – и вынуть его при свидетелях, чтобы отпираться не могли.
– И так можно! Заложить здесь в потаенное место, какое ни на есть. Пришлют доследовать – и вынем перед всеми.
– Место выбрать тоже нужно умеючи. Чтобы святость да малое удобство всякому доступить были явной уликой на участников в деле.
– Знаешь, государь милостивый, мы напишем, и я руки приложу за всяких здешних набольших. Приговоры достать можно всякие разные от подьячих, на время, за поминок покрупнее. С подлинника противень[9] я мастак снять так, что не отличить самому свое письмо от подделки. Грамоту свою мы разукрасим всяческими руками да и заложим за ризу иконы Знаменья, в соборе.
Ватажник привскочил, услышав о возможности подобного дела. Разумеется, в глазах московских сановников, людей новых, жадных до корысти и малоразборчивых на средства, это представляло всю внешнюю подлинность и вероятность, нелегко разбиваемую сомнениями рассудка, незнакомого с приемом и целью выдумки. Раз уже, давно, впрочем, чуть не за сто лет, клеветники новгородские перед Иваном III употребляли в дело подобное же доказательство мнимой измены ему отчины Святой Софии. Проходимец Петруха, всего зная понемножку, в летописце нашел подтверждение такого случая. Гнев государя тогда разразился больше над духовенством, в руках которого было заведование храмами, и, следовательно, нахождение в церкви грамоты, подтверждающей донос, могло быть только при участии духовных властей в общем воровском деле. Отомстить духовным, к которым принадлежали чернецы, было приятно одинаково и ватажнику, терпевшему в своем промысле в былые времена неудачи и привязки от светской власти по жалобам духовной. Адский план Петрухи ему самому, без сомнения, нравился еще более и во всех частях. Заметив полное удовольствие на лице ватажника, он в душе считал за собой победу. О средствах привести в исполнение придуманное он меньше всего заботился, привыкнув из хода обстоятельств почерпать источники, ниболее пригодные и всего ближе ведущие к цели. В ожидании верного возврата с лихвой ватажник выделял алтыны на подкуп нужных людей, подьячих, за чарку нанесших Петрухе из разных мест приговоры с рукоприкладствами всех значительных лиц. Противни, сквозь масленую бумагу, посредством припорошки сажицей, проходим Волынец выполнил безукоризненно. Грамоту в черняке читали и выправляли писец и ватажник много раз и обделали дельце, что называется, чисто, так что комар носу не подточит: не возникало сомнения в подлинности приговора о предании Новагорода в польские руки. Написав, проходимец забегал с десяток раз в собор Софийский, где на ту пору золотили и красили средние тябла иконостаса.
Было близко к полудню, когда, прокравшись незаметно за леса и свешенные с них рогожи, Петруха дождался благоприятного случая запрятать, куда решено было, приготовленную им улику мнимого сговора не чаявших грозы горожан-новогородцев.
Последний десятник, соскочив с лесов, отправляясь обедать, долго прислушивался к шороху, производимому краем рогожи, при качанье от сквозного ветра задевавшей за лапоть Петрухи, стоявшего на перекладине. Полумрак, царствовавший в соборе, давал возможность усмотреть движение рогожи, но никак не отличить за нею порыжелый грязный лапоть. Причины шороха успокоили десятника – и он наконец ушел, щелкнув дверным замком и унося с собой ключ. В мертвой тиши, наедине, до возвращения с обеда рабочих, Волынец ловко вывернул целый ряд шпилек, придерживавших ризу на иконе Успенья Пречистые Богоматери, отогнул толстый лист золотой басмы и, вложив произведение своего пера, опять не торопясь заколотил тщательно все шпильки. Дело покончено – и он, сойдя с перекладины, улегся в притворе между двумя княжескими гробницами. Выждав до вечерни, он незаметно проскользнул к стенке, когда отправлялись службы, в сумерки, при полном мраке в соборе. Выйдя вместе с другими от вечерни, Волынец явился к ватажнику – и дружеская попойка покончила все хлопоты придуманного черного дела. Недаром на неделю, всеми неправдами, оттянул свое пребывание в Новагороде хитрый ватажник. Ему от Субботы каждый день доставалось за неизготовление обоза, когда из слободы слали отписки за отписками, наказы за наказами: везти не мешкая потеху великому государю.
Понимая сам необходимость наверстать потраченное время в городе, с выездом из волховской столицы ватажник пустил медвежью охоту на телегах рысью, и на третий день к вечеру золотые маковицы слободы Неволи, блеснув из чащи леса, переполнили радостью сердца изобретателей нового сговора. Суббота не оставлял обычной хмурости своей с памятного утра свидания с Глашей. Сердце его щемило. Во впалых глазах изредка только загорался зловещий огонек ярости; и необщительность его дошла до крайних пределов. Ехал он в постоянном забытьи – и на оклик сторожевого при въезде в слободу только махнул рукой, ничего не ответив. Если бы не собачья морда на шапке да не метла в тороках, не обошлась бы рассеянному даром эта его забывчивость порядка. К счастью, привоза мишуков ожидали с нетерпением, и перед отправлением ко сну Малюта уже донес державному, что «звери прибыли, надо думать, благополучно. Хворых и некошных не оказалось, а скоморохи прибраны умненько, и парни все на подбор. Сам-от набольшой, доносил мне подручный его, только в исступленьи якобы обретается».
– С чего бы? – в раздумье и сочувственно отозвался про себя Грозный. – Аль у нас, кого отличу я, тому и невзгода бывает?.. – сделал вдруг странный вопрос государь, устремив на докладчика свой ярый взгляд, от неожиданности которого словно смешался верный слуга, пробурчав сквозь зубы:
– Бывает!
– А мы хотим, чтобы исступленья малому не напускали ничем. На Покров хотим зрети сами его досужество… А коли в чем помешку усмотрим, доищемся виноватого – и горе ему и вам!!!
Обидность предположения, зная своего повелителя, у которого всякое объяснение только укореняло подозрение, Малюта не попытался дать заметить, и ни одна морщинка на его мясистом лице не дрогнула. Хотя силу удара и намеренность нанести его докладчик очень хорошо понял с первого же слова.
Наутро началась спешная работа очищения места перед царским теремом для невиданной потехи: пляски человеческой с мишуками. Крыльцо в палаты было двускатное, широкое, с обширной площадкой от спусков. К стенке его приделали наскоро место для кресла государева. Прямо перед ним на земле обведен был надолбами широкий круг для медвежьих плясок. Под крыльцом и местом царским набили стоек да яслей. Думали, потребоваться могут для справки и крюковые книги, по которым обучал певчий дьяк гудошников и накрачеев лады брать отменные. Все эти художники, подученные довольно, должны были отличиться на потехе и показать свое уменье великому государю, давно уже желавшему слышать мусикийское согласие, окромя столпового пения в храме. Всему звериному причту раздали на руки из кладовой новые кафтаны турские, обшитые золотыми нашивками так часто, что кармазинное сукно просвечивало узенькими полосами меж галунов, на руках и на груди; на спине же находились серебряные орлы с Георгием Победоносцем. Мишуки были тоже принаряжены: поперек под брюхо шли на красных ремнях нашитые бубенчики, ошейники с кольцами, сквозь которые продеты были ремни наборной серебряной сбруи, а на тяжелых лапах у зверей болтались серебряные колокольчики самого нежного звука.
Праздник Покрова удался на славу. Лето и осень в этом году были замечательно теплы – и легкая прохлада в воздухе к полудню стала меньше заметной при наступлении полного затишья. Обычный полуденный сон прервали в слободе на этот раз в два часа звоном колокола. Государь не замедлил выйти из палат и сесть на свое место. Зурны и накры грянули в лад – и звери, спущенные вожаками, пустились в пляс. Мгновение – и, махая шелковой золотошвейной ширинкой, выскочил в красном кафтане бледный Суббота, под усиленный гул зурн и гудков принявшись вертеться и заигрывать со зверьми. Вот он, оживляясь и приходя в дикое исступление, начинает крутить и повертывать зверей, рык которых, казалось, на него производил подстрекательное действие, умножая беззаветную отвагу. Движения в поднятой пыли зверей и подскоки человека, кружащихся в общей пляске, обратились затем в какое-то одуряющее наваждение, удерживая глаза зрителей прикованными к кругу, откуда раздавались дикие звуки и виднелось мельканье то красного, то бурых пятен. Зурны и накры дуют вперемежку, а из круга зверей раздается бросающий в дрожь свист – не то змеи ядовитой, не то соловья далекого, то усиливаясь, то дробясь и исчезая, как бы заглушаемый в пространстве или замирающий при биении сердца.
Время как бы остановилось. Оно казалось одной минутой и вместе целой вечностью от полноты ощущения, не пересказываемого словами. Удар колокола к вечерне был как бы громовым ударом, рассеявшим чары. Царь встал – и всё встрепенулось. Люди схватили зверей за поводья, и мановением державной десницы Грозный подозвал к себе Осетра.
– Исполать тебе, детинушка!.. Показал ты нам этакую хитрость-досужество, каких сроду люди не видывали, опричь твоего дела. Осетром прозвали мы тебя ради мощи да смелости, а теперь эту удаль к чему приравнять, недоумеваем. Признайся по совести, не знаешь ли ты какого слова заповедного, которому звери повинуются?.. Нет ли за душой твоей такого греха смертного, заклятья али наговора? Сдается нам, по бледности твоей, что недоброе что-нибудь да таишь ты на сердце? Ввиду настоящего твоего подвига мы тебе отпустим вину твою, коли чистосердечно исповедуешь нам зло, содеянное нам волею аль неволею…
Суббота, мрачный и сосредоточенный, стоял перед вопрошавшим царем не двигаясь, но и не шевеля губами, глазом не моргнув, глядя в очи державному спокойно и холодно.
– Так нет за тобой вины чародейской и никакой подобной ему? – еще раз менее торжественно повторил вопрос свой Грозный.
– Чар я не ведал и с чародейцами не важивался, а со зверями, надежа государь, плясывал… За воров лишен был когда счастья, обиду смертную не снеся, в пьянство ударился. И за ту мою вину, за пляски звериные, много годов без очереди служил тебе, великому государю, в острогах заокских, откуда меня ослобонил твой стольник государев, господин Яковлев. И вписал он меня в опричные, досмотрев во мне злость и вражду к людям, надо полагать. И, обиду свою желая выместить, искал я ворога…
– Я ни о чем другом не спрашиваю, а только насчет связи с нечистой силой, – спокойнее и приветливее перервал признание Субботы Грозный, ударив по плечу бравого плясуна и поздравив его своим стремянным, велел напенить ему чашу мальвазии. – Пей же за наше здоровье!.. Благодарю за потеху неслыханную… – Последнее слово произнес государь, окинув взглядом всех его окружавших, давая им понять, что досужество нового стремянного он, государь, ценить сумеет по достоинству.
Ватажник, с призывом Субботы, выдвинулся вперед звериной челяди, ожидая очереди после Осетра предстать пред царские очи; но, отпуская движением руки награжденного чашей и званием Осетра, Грозный стремительно оборотился и пошел в палаты, не взглянув больше в круг и на зверей с прислугой.
– Взаправду чародей, на себя одного око царское наводит, а черен аки ефиоп! – проговорил, не сдерживаясь, озлобленный ватажник.
– Чем же черен, мужичок, плясун-от ваш? – ласково и вкрадчиво спросил говорившего младший Басманов. – Ум хорошо, а два лучше. Ты, как я же, не возлюбляешь особенно выскочку?.. Приходи ко мне, потолкуем.
С медвежьих плясок прошли к вечерне. Служил ее обыкновенно духовник царский, протопоп Евстафий, с наружной чинностью, но довольно скоро.
Пока ватажник распоряжался отводом и установкой медведей по стойлам и клеткам, давая косматым скоморохам по ковшу горячего вина за труды, служба церковная была уже близка к концу. Управившись, опрометью прибежал ватажник на крыльцо к притвору перед церковью, из которой раздавались последние слова молитвы Василия Великого. Читал звучным голосом чередной брат-кромешник Алексей Данилыч Басманов: «…настоящий вечер, с приходящею нощию совершен, свят, мирен, безгрешен, безблазнен, безмечтанен и вси дни живота нашего…» Хор кромешников, перебивая чтеца, спешно отхватал «Честнейшую херувим», чуть слышно проговорил отпуст отец Евстафий, и шарканье многих ног по плитам невольно заставило ватажника втесниться в узкое пространство между краем распахнутой двери и уголком внешнего столба в притворе.
Чинно проходили парами кромешники, сверх кафтанов напялив на широкие плечи монашеские мантии.
Басманов приметил стоящего ватажника и кивком головы, проходя мимо, дал ему знак следовать сзади.
– Не прогневись, дружок, коли сегодня с тобой мне недолго придется калякать, – усаживая ватажника и придвигая к нему братину с романеей, вкрадчиво сказал приветливый Алексей Данилыч. Сам сел подле и, уставив свои слегка прищуренные глазки на плутовскую, осклабившуюся рожу ватажника, промолвил, не обращаясь к нему прямо: – После службы государь не больше часа внимает чтению от старчества, трапезует – и постельник будет уже в опочивальне, да держи ухо востро, чтобы одр был уготован совсем по нраву. Комья бы какие не беспокоили государский бочок, и в сголовье бы головка державного не тонула, да и зною бы, не токмо угару, бы не ощутить. Стало, нужно исподволь все распорядить. А как разоблачишь – растянешься на полавочник, жмурь бельмы, будто дремлешь, а сам смекай, неравно что потребуется… Глянул государь – а ты и подаешь… Так, дружок, как, бишь, звать-то тебя, не по мысли тебе ваш проходим-нáбольшой, как и мне, грешному?..
– Истинно, государь боярин, изверг этот самый, доложу твоей милости, все очи успевает отводить, с царя начиная…
– Наши не отведет… Насквозь видим, что за птица – сыч… Прости Господи согрешение! – Басманов набожно перекрестился, не обманув, впрочем, доку ватажника своим смирением. – Черное дело на душе у него, голову готов на плаху положить!
– Воистину, милостивец… Коли б ты знал да ведал, какое злодействие он учинил, проклятый, в Новагороде… Дьяка, слышь, софийского, медведем изломал и к воеводе подбился – сущий дьявол какой… Тот было напустился попервоначалу, а потом лучшие друзья стали. А воевода-то, доложу, сам вор отменный.
– Что?.. Как? Воевода? Князь-то Курлятев Митрий? Да ты с ума сбрел, никак… Мы с им хлеб-соль водим да поминки получаем почасту… Коли его так ценишь, так надо поглядеть, может, Осетр-от, коли Митьке в приятели пришелся, и не таков вовсе, чтобы ему вредить. Ты-то сам кто?
И Басманов, уже не владея собой, почти гневно мерил глазами ошеломленного клеветника.
Тот молчал, внутренне злясь на себя, что начал прямо, не испытав почвы, свои наветы на Субботу. Виноват тот был на самом деле в том только, что стоял поперек дороги грабителю, отданному ему в подчиненье. Басманов погрузился в глубокую думу. Углубление в нее мало-помалу разглаживало морщины на лбу над сдвинутыми бровями рассерженного царского любимца.
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа… – раздался сиплый голос за дверьми.
– Аминь, – произнес неохотно Басманов, мгновенно скрыв остатки недавней бури, еще не улегшейся в душе его.
Вошел Малюта Скуратов и не церемонясь прямо повел допрос:
– Да у тебя свой же!.. – Одного взгляда ему достаточно было, чтобы понять, что ватажник чем-нибудь досадил Басманову. – Боярин, видно, лаской да почетом старается взыскать бедного, обойденного государской милостью? – вдруг молвил искусный допросчик, глядя разом на гостя и на хозяина.
– Я за делом было пришел к боярину, да его милость не любит правды-матки, коли коснется речь о присных ему, – нахально отрезал ватажник, желая насолить Басманову.
– Боярину не по душе, так мне говори про твое дело; я все готов выслушать: любо ли, не любо, а наша невестка все трескает… – проговорил, осклабясь и от того являясь еще более непривлекательным, Малюта.
– Мне не любы не слова о деле подлинно, а обношенья подчиненных людей, воевод царских, смердами неродовитыми, я принимаю за личную обиду и себе, и государевому правосудию…
– До Бога высоко, до царя далеко, боярин, а правосудие царское ведется теми же людьми, что и мы с тобой: воры заведомые; стало, чего обижаться, коли, греховным делом, и сбрехнет что не к месту усердный слуга?.. Не бойсь, друг, мне прямо говори все, что думаешь, мое дело выручать, потому что мне с руки. Я слушаю, бай же, складно аль нескладно, все едино, разжуем как-нибудь.
– Изволь видеть, государь боярин, в Новгороде воровство великое приготовляется, отступить хотят горожане и с воеводой со своим из-под воли великого государя за ляшские руки круля Жигимонта.
– Ты от меня это скрыл, – холодно и совсем оправясь отозвался Басманов.
– Как же так отступать-от хотят? – продолжал, словно не слыша слов Басманова, Малюта.
– Да весь Новгород, и с воеводой царским, и со владыкой, и со властями, и все старосты, н с мужиками выборными, огулом приговор написали и руки закрепили, чтобы им передаться Жигимонту-крулю, как удобь явится, а до того ни гугу… Всем молчок, знать, мол, не знаем и ведать не ведаем…
– Мудреное дело, паря, ты мне поведываешь – и я, братец, за Алексеем Данилычем вслед, в обиду приму твое бездельное над нами насмеятельство: видно, ты впрямь нас дурнями почитатешь, коли такую сказку поведываешь?.. Парнишку возьми безмозглого – и тот тебе не поверит, для чего такую притчу баешь. Новгород – не земский мужик, что Юрьева дня ждет, чтобы хвост показать помещику-кулаку, не то обидчику. Великий государь чествует и владыку и властей, жалует воевод своих, есть у них у всех доходы изрядные, и впредь от них никто не думает ничего отнять… Веру исповедуют нашу, православную… Чего же для к папежцу-то Жигимонту челом им ударить?.. Ну-кась, умник, молви нам премудрость свою, а то ум за разум заходит от речей твоих непутных.
– Не верьте, пожалуй… Покаетесь опосля, как хвостик покажет Москве да Литве передастся Новгород…
– Болтун, брат, ты безмозглый, хватил из братинки больше надлежащего, и лепечет язык сам ты не ведаешь что!.. – ввернул в свою очередь Басманов, сочувственно взглянув на Малюту.
А ватажник глазом не моргнув на своем стоит:
– Увидите!.. Спохватитесь, да поздно будет!
Басманов встал и медленно пошел вдоль комнаты своей, заложив руки за спину. Пройдя раза три, он остановился перед ватажником и, смотря ему в глаза, спросил:
– Кто же тебе поведал о предательстве Новгорода?
– Я вам не скажу кто, а государю сам представлю очевидца, при котором все сделалось, и он улику даст такую, что виноватые должны будут сознаться.
– Давай же твоего очевидца, я его расспрошу сам, а государю до расспроса доложить ни за что не решусь.
– Изволь, государь, ин быть по-твоему… Приведу с очей на очи.
– Веди скорее ко мне сюда!
Говоря эти слова, Малюта с ватажником вышли. Басманов остался сидеть, невольно поддавшись страху, когда в мыслях его встал непрошеный призрак царского подозрения, возбуждаемого легко всяким намеком на умолчание. Малюта был мастер играть на этом инструменте. Он уже явно вредил Басманову, давно перестав действовать с ним заодно.
«Надо предупредить державного на всякий случай!» – решил Алексей Данилович, идя на ночлег в опочивальню.
Суббота между тем, в один день с царской милостью, его не порадовавшей, получил неприятность со жгучею болью, заставившую облиться кровью сердце.
После чаши царской конюший немедленно нарядил нового стремянного к государевой опочивальне для выполнения приказаний, какие могут отдаваться.
Новые товарищи холодно встретили вступление в их среду найденного царскою милостью.
Присел Суббота на лавку и поднял волоковое окно, желая освежиться прохладой осеннего вечера. Устремив глаза во мрак, он мало-помалу начал различать предметы сперва неясно, а потом, освоившись с темью, более отчетливо. Вот он приметил суетливость у въезда в главные ворота, по сторонам которых, за будками, горели бочки, резко выделяя будки и стражников, окруживших какой-то поезд с вьюками, заводными лошадьми и прикрытием из полутора десятка стрельцов. Поезд этот остановили стражники вечера ради – и никак не позволяли въезжать на дворцовый двор. Поднялся шум.
– Поди, Суббота, узнай, что там! – приказал отрывисто, появившись в дверях внутреннего перехода, сам конюший.
Молча вышел новый стремянной и пошел к воротам. Воротился и рапортует:
– По царскому указу прибыл в слободу гонец кромский, везя спешно ханского посланца. Наказа же о пропуске, да еще ночью, не дано страже – та и не впускает прибывших.
– Пустить – пустим, нельзя. Ужо доложу: что прикажет государь. Возьми гонца и посланца хоть к себе и будь с ними до призову.
Стремянной буквально исполнил и это поручение.
Вошли гости в келью Осетра Субботы и расположились, сбросив лишнее бремя с себя.
Татарин уселся на коврике. Русский гонец, перекрестившись, сел за стол. При свете тонкой свечи из желтого воска гость и хозяин невольно вздрогнули, встретившись глазами.
– Дядя Истома, ты это?
– Никак, впрямь с того света, что ль, воротился, Суббота мой? – разом вскрикнули, узнав друг друга, дядя и племянник.
– На том свете не привелось еще быть, а, надо быть, скоро туда угожу, – мрачно отозвался Суббота. – Ты, дядя, как с татарином-от снюхался?
– С отцом твоим, не к ночи – ко дню будь помянут, в Крым нарядили нас, уже, никак, в-четвертые. Живали допрежь мы и обыркались… Все порядки знаем, ну и послали опять… Родитель твой на самый Вознесеньев день от трясовицы тамошней Богу душеньку отдал, вот и правлю теперь я один дело, посланца везу… Даст ли Бог голову сносить еще раз, как пошлют!.. Хан зло имеет на государя, на весну всенепременно за Окой явится, турки там теперя под Астраханью… Вот что о себе скажу… А все сам смотрю да не верю: впрямь ли в живых это ты, Суббота?.. Схож, неча молвить, только постарше, да злости такой допрежь не было в обличии, а то совсем племянник!.. Кудерцы также вьются, ус велик стал… а глазищи… Не смотри на меня таким волком!.. Я не ворог, коли родня подлинно… Куда только ты сгинул, голубчик, с самого того дня, как Нечайка со Змеевым художество над отцом учинили?.. Да, вспомнил, еще раз показался и пропал опять.
– Лишили меня счастья… Пропадай, жизнь! К чему было отцу Герасиму врачевать меня, грешного, людям на пагубу?
– На пагубу… Кому?.. Да в уме ли ты, разве можно губить кого?.. Сохрани те Господь от глагола хульного!.. К чему клепать на себя напраслину?