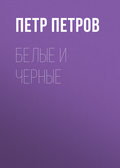П. Н. Петров
Царский суд
Удовольствие от острот Чистоговора отразилось на лицах слушателей, и в уме их не могла уже возникнуть, конечно, мысль о малой мелодичности великана бубна – по объему своему действительно имевшего право старшинства между обыкновенными инструментами этого вида. Подхваливая же Тарасову игру, где дело расходилось со словом, слушатели положительно подтверждали замечательную у них дебелость ушей сравнительно с любыми нервами людей нашего времени, жалующихся на малейшую резкость звука или возвышение несколькими нотами голоса. Под шумок продолжаемых в том же роде россказней Тараса Суббота не возбудил ни в ком ни крошки внимания своим появлением. Наоборот, его внимание было поражено, особенно при том положении напряженности и жажды ощущений, прежде всего общностью сборища, а там каждою особью в свою очередь. Он имел полную свободу делать свои наблюдения, потому что глава ватаги, подкреплявший свою оживленную речь частыми глотками браги из кружки, был, что называется, неистощим и неподражаем в уменье протянуть нить рассказа о бубне в самую вечность. Двенадцать же глаз, на него обращенных, и столько же ушей, его слушавших, находились в состоянии полного очарования, ничем не способного нарушиться. Не принимала участия в знакомом ей, вероятно, очень хорошо рассказе о бубне только молодая особа в красном шушуне, в таких же черевиках да в желтой исподнице, сидевшая против рассказчика на приставленной к столу скамье, боком к вошедшему Субботе. Она словно обернула к нему голову, когда еще раздался скрип отворившейся двери, но потом отчего-то не один раз потуплялась, начиная разбирать узорную прошву своего вышитого цацами передника. Черты ее были больше чем привлекательны, но круглое лицо поражало бледностью и чем-то похожим на припухлость, а отнюдь не на простую полноту. Могла, впрочем, примирить и с этим недостатком ее лица улыбка, располагающая к себе всякого, на кого она бывала направлена. Улыбка эта, добрая и сочувственная, в минуту прихода Субботы как-то блуждала на лице, потерявшем большую часть своего оживления благодаря выпитой браге. Глаза ее, уже туманные, почти погружались в дремоту, видимо одолевшую эту особу, хотя она еще сопротивлялась приступам сонливости.
Молодцеватый вид Субботы или, может быть, неожиданность его прихода и своеобразность, приданная наряду его монашеской шапочкой, плохо вяжущейся с нарядным кафтаном, по всей вероятности, не скрылись от молодой особы. Хотя она и силилась противостоять нашествию дремоты, но мгновенное оживление сообщило игру бархатному взгляду красавицы. Длинные волосы ее картинно разбросались по красному шушуну и широким складкам еще более яркой исподницы.
Приятность взгляда, чуть не в упор устремленного ею, невольно поразила Субботу при первой встрече очей его с нею. Смятение, овладевшее молодым человеком, должно было усилиться и от прихода в незнакомое ему многолюдство. Это ощущение скоро достигло в нем крайней неловкости, когда, остановясь на одном месте, он стал переминаться, а незамечанье его упорно выдерживалось всем сборищем с одинаковой безразличностью. Он хотел заговорить первый, но растерялся до того, что чувствовал недостаток силы разжать рот, словно привешены были к губам его свинцовые гири. Неловкое положение неожиданно рассеялось подскоком собачки, обнюхавшей новоприбывшего и, должно быть, ошибившейся на этот раз. Она бережно взяла в зубы шапочку, которую держал в опущенной руке Суббота, и, махая хвостиком, отошла с ней к столу и опустила свою добычу на лавочку подле осовевшей женщины с блуждающей улыбкой.
Суббота, не давая себе отчета, последовал за унесенной шапочкой и хотел только, подойдя к лавке, взять ее, когда красотка дружески подвинулась, указав нашему молодцу свободное место подле себя. Суббота опустился на лавку. Это случилось так быстро, что он не мог не только рассудить, но даже и сообразить, для чего он это делает.
Послышались разные возгласы:
– Гляди, какой гусь залетел!
– Нашей, значит, ватаги прибыло, братцы: Танька знакомого нашла…
– Ха-ха-ха-ха! – покрыли слова эти раскаты веселого смеха всех присутствующих.
Миловидная соседка Субботы, величаемая главой ватаги по простоте Танькой, при словах его вышла из державшего ее столбняка и, подавая свою кружку с брагой Субботе, как бы знала его уже давно, промолвила ему: «Испить, может, хочешь, красавчик?» – а сама закинула ему руку за спину с особенной заботливостью.
Субботе действительно с устатка пить хотелось, и от приглашения, такого искреннего и неожиданного, он не нашел в себе силы отговариваться: взял и выпил кружку и взглянул на подносившую с немой благодарностью. Ей показалось это прямым ответом на взаимность – и звучный поцелуй в щеку молодцу для заседавших в притоне стал явным знаком Танькой новоприбывшему.
– И взаправду, девке-то малый сродни! – гаркнули мужчины, повставали с мест своих и приступили к новому товарищу с приветом и здорованьем, как будто жили с ним век.
Послышались поцелуи со словами: «Будь здоров!» Прием в новое общество опять совершился, прежде чем приготовился отвечать Суббота, под впечатлением происходящего не думавший отталкивать здоровающихся. Он находился словно в чаду, а когда туман и наплыв навеянных впечатлений несколько рассеялся, решил: быть делу так, коли пришлось! «Люди, кажись, душевные: не приказным кровопийцам чета!.. Да и святости монашеской не встретишь здесь, где спознала тебя эта самая Танька. Открытая душа… Чего же мне-то теперь отталкивать ее?.. Избрала – ее дело; коли ошиблась – пусть пеняет на себя».
И эта философия, добытая со дна выпитых кружек браги, в это мгновение имела для охмелевшего Субботы положительное значение с устатку и с голода.
Наутро сборище оказалось еще более разношерстной ватагой, где среди странствующих скоморохов находили удобное прикрытие всякого рода художества, в том числе и гаданья, и другие людские обманы. Запевалой был обладатель уродливого бубна, а закраскою – легко поддававшаяся минуте Танька. Она привязалась со всем доступным ей пылом страсти к юному Субботе, упавшему словно с неба. Никто не спрашивал, кто он. Все удовлетворились одним прозванием Субботы, скоро захотевшего принять и всю скоморошескую выучку, чтобы ничем не отличаться от других членов ватаги.
Наука далась: песни, разучиваемые при дружеском участии звонкоголосой Таньки, затверживал памятливый Суббота так легко, что недели через две он знал и в точности мог петь весь изборник веселого братства. Кривлянья и ломанья да залихватские пляски и в игре коршуна с горлицей, и вприсядку возбуждали при выполнении Субботой общее удовольствие сотоварищей и одобренье дяди Тараса – запевалы. Жизнь пошла было припеваючи… Но восторги сперва горячо разделяемой любви, оставаясь у Тани и через два месяца столько же пылкими и способными доводить до забвения, – в Субботе уже возбуждали к ней холодность. Мало-помалу охлажденье росло – и не заметить его не могла даже сама, на все смотревшая сквозь пальцы, нежная Таня. Она стала вздыхать и задумываться. Обстоятельства, в другое время способные расположить ее к беззаботному ожиданию последствий, теперь, при охлаждении Субботы, заставили глядеть на будущее неприязненно и искать выхода из круга, где надежда на посильное счастье тускнела с каждым новым днем. Она решилась наконец сама бросить охладевшего и передала свое решение Тарасу, первому предмету ее сочувствия, которое давно угасло, не породив между старыми любовниками – что редко случается – ни малейшей вражды. Тарас уже рассчитывал на барыши от ловкости Субботы. Но решительное требование бросить его со стороны Таньки перемогло, однако же, на этот раз. «Быть по-твоему! – согласился запевала. – Только случая подождем».
– За этим дело не станет! – отвечала Танька с улыбкой, хотя кошки заскребли у нее на сердце при этих словах сильнее, чем когда теряла она первый предмет своих увлечений.
Пришла в воскресный день ватага в большое селение – и вечером же, остановясь в кабаке, учинила большую попойку. Суббота нахлестался до бесчувствия. А наутро, когда его не хотели или впрямь не могли добудиться, ватага неожиданно скрылась, оставив спящего кабатчику…
Лето было уже на исходе.
В людном селении, случись годовой праздник, как теперь и во вторник, народ гуляет нараспашку. Перед закатом солнца заходили хороводы. В сторонке от дороги, при самом въезде за околицу, подле корчмы, расположились коробейники, разложив на траву самые яркие и блестящие приманки для женского пола: расписные выбойки, платки, перстеньки, сережки, гребешки, медные запонки дутые. Стоит взглянуть ненароком – и глаза разбегались: не знаешь, что выбирать…
Эта выставка редкостей, на удивленье деревенским покупщицам, мешала им как должно вести хороводы и петь песни – и собрала такую толпу, что трудно было со стороны разобрать, что тут делается. Торг у коробейников пошел на славу. Меньше продавалось, как водится, на алтыны, а больше на менок, но наличного товара скоро оказалось недостаточно для удовлетворения сильного спроса, и коробейникам понадобилось обратиться к запасу своему – складу товара на дворе. А покуда неудовлетворенные приобретательницы ждали открытия там распродажи с воза – раздался чуть не над ухом звук рожка и показались поводыри с медведями.
Ватага вступила в селение немаленькая: кроме двух стариков, из которых один прикидывался слепцом и выдавал себя за деда четырех молодцов разных лет и склада, были еще налицо два подростка, не меньше старших плутоватые. Медведей вели они целый пяток (в том числе две медведицы). Такое количество зверей разом у одних хозяев привлекло кучу любопытных мужиков. Скоро, впрочем, присоединились и молодицы, особенно приводимые в восторг представлением медвежьей пары, – как заигрывает парень с девкой. Косматые скоморохи по желанию зевак повторили уже раз с десяток этот образчик своего посильного искусства, когда из корчмы вышел, шатаясь, молодец – весь изорванный и замаранный кровью… Поглядел-поглядел на медвежью пляску да вдруг и сам понемножку начал поводить плечами и руками, словно норовя вступить самолично в состязание со зверями. Пуще да пуще стало его разбирать, и вдруг пустился он вприсядку под нехитрую музыку поводырей.
Наградой удальцу разгульному были общие рукоплескания всех присутствующих, не исключая, кроме приятелей, и самих поводырей медвежьих, подозрительно цедивших сквозь зубы:
– Ай да молодчик! Ай да ухарь!
А величаемый молодчиком и ухарем от этих ли поощрительных слов или просто под накатом безотчетной и непроизвольной жажды развернуться да показать свою удивительную ловкость, входя мало-помалу в задор, все ближе и ближе подвертывался к медвежьим парам.
Вот он начал задирать мишуков и медведиц в голову никому не приходившими заигрываниями: то хлестнет по морде свирепого зверя, скалящего зубы, то подхватит да повернет дикую Марью Ивановну, словно признавая в ней обыкновенную плясунью; то, изгибаясь сам, как червь на три перегиба, норовит ножку подставить мерно подскакивающей чете Михайлов Ивановичей – и те, сердечные, кувыркнутся, не ожидая этой проделки.
Зрители чувствовали уже боль в животе от беспрерывного, неудержимого смеха, а сами, точа слезы из очей, продолжали смотреть да закатываться, как вдруг мастерство плясуна было грубо остановлено выбежавшим целовальником. Он успел схватить удальца и дернуть к себе так отчаянно, что молодец, потеряв равновесие, пал навзничь почти под самым медведем, наиболее скалившим зубы и рычавшим вследствие заигрываний расплясавшегося ухаря. Ему грозила верная опасность – и единогласный крик ужаса вырвался из всех за мгновение хохотавших глоток, но плясун, в один миг успевший вскочить на ноги, вспрыгнул верхом на грозного своего неприятеля, с ревом шедшего на поверженного врага понурив голову.
Трудно описать то впечатление, которое сменило при этом общий ужас принимавших участие в разудалом плясуне-гуляке.
Зверя сдержали поводыри, бросившись все к нему. Витязя сняли с торжеством и повели угощать в кабак в сопровождении ворчащего целовальника.
За угощением дело разъяснилось: ухарь оказался задолжавшим кабатчику за выпитое зелено вино, уже третий день им то и дело требуемое, без уплаты денег. Разъяснение дало делу такой оборот, какого прежде всего не мог ожидать сам отчаянный плясун: поводыри выкупили из кабацкого плена парня, обещавшего хороший барыш, если только предоставят ему возможность плясать с медведем.
Решив дело и напоив еще пенником предмет своей выгодной сделки, поводыри, люди опытные, тотчас подыскали человечка, мигом настрочившего кабалу, с пробелом только имени кабального, так как оказалось, что кабатчик не знал его, а бесцеремонно обращаемый как вещь в собственность вожаков медвежьей ватаги хранил упорное молчание. Это дало сперва повод мнимому слепцу разрешить трудный вопрос об имени самым легчайшим способом: он разрубил гордиев узел написанием первого пришедшего на ум имени и прозванья, окрестив немым дешево уступленного кабатчиком в кабалу. Так почти и решено было, как мнимый немой гаркнул очень речисто кабатчику:
– Давай еще меду крепкого, ирод… было бы уж за что пропадать!
– Какая те пропасть мерещится, милый ты человек?.. – ласково обратился к гуляке разудалому хитрый плут, разыгрывавший слепца и дедушку. – Нам не жаль, паря, угостить твою милость… И сами-ста хватить не прочь за твое здоровие; как величать только, не знаем?..
– Субботой батька с маткой прозвали, Гаврилой поп нарек, а род наш, бают, Осорьины будто… коли я это на белом свете мыкаюсь, а не леший в моей шкуре.
– О, так милость твоя хорошего роду… прощенья просим по приятстве, как, бишь, по родителю-то?
– Много захотел! Еще и родителя тебе выдать ответчиком за мое безобразье… я один в деле – один и в ответе… – проговорил охмелевший Суббота, залившись горькими слезами при мгновенном просветлении сознанья.
– Малый, видно, и впрямь бывал из порядочных да закрутился… А жаль… видный молодец… Хоша и на службу царскую выставить.
– А ты думаешь, олух, что мы не служивали?.. Вр-решь!.. Бывали на Коломне, на смотру два лета да и отбывали все как надлежит, с нарядом, в полном сборе… Ты что знаешь? Ась? Мишуков цукать?.. Так куда же со мной?.. Не замай!..
– Да я не прогневлять твою милость, а с доброго сердца хотел поздравствовать… по отечеству взвеличать.
– То-то! По отечеству величать? Изволь: батько Захар-Удача мой… Меду! Пьем! – И, осушив тяжелую стопу, скатился совсем обессиленный удалец под лавку и захрапел, вздрагивая по временам в тяжелом сне.
В кабалу, с пересказа мнимого слепца, вошло полное имя закрепощенного ватагой – и отпереться ему от дачи кабалы нельзя, за вставкою трех послухов[3], якобы упрошенных самим отдавшимся своей охотой.
III
Где правды искать?
В ватаге ладил Суббота с медведями одними. Косматые скоморохи полюбили не на шутку своего плясуна. А иной раз, как расходится наш угар-молодец, он забывал и свою ненавистную долю, носясь в бешеной пляске между подпрыгивающими мишуками. Случись в Ржеве-Пустой быть на представленье вдове молодой, боярыне. Понравились ей ради новости и оживленные медвежьи прыжки, и разные кривлянья, искажавшие человеческие ощущения, по звериному уменью. Но когда выпрыгнул Суббота и начал с судорожной дрожью похлопывать и подергивать Марью Ивановну, нисколько и не гневавшуюся за эти любезности, – боярыня глаз не спускала с ловкого и осанистого Субботы и, сама не зная как, заразилась тоской по красавцу. Всего один раз встретились глаза зрительницы и плясуна. Как же не назвать после этого такого молодца выходцем с того света? Ни хожденья по монастырям, ни обильные милостыни, ни отчитыванья опытных в духовном врачестве старцев и стариц – ничто не помогало бедняжке. Говорят, и теперь она еще все тоскует да хиреет, места не находя себе от тоски. Бесстрашный глава ватаги один только руки себе потирает, глядя, как после каждого представления с Субботою, при обходе с бубном рядов распотешенных слушателей, обильные сборы денежек с лихвою уже усотеряют его взнос за удалого плясуна кабатчику. Сам плясун был между тем постоянно мрачен и озлоблен. Никому он ничего не говорит да и не слушает, что ему говорят. Выходит к публике нечасто, на своей полной воле: не захочет – ничем не принудишь и не уговоришь. На уговоры и умасливания упрямец начнет только бросать озлобленные взгляды да затрясется иной раз от бешенства. Приносят ему и склянку с одуряющею влагою, но не всегда схватится за нее этот изверг не изверг, а дикарь. Заведомо с черным делом, должно быть, на душе, если еще не хуже что – могли с некоторою даже вероятностью, пожалуй, думать сторонние люди, кому выпадал случай видеть Субботу озлобленного и мрачного. Когда же хватить удастся всепримиряющей хмельной браги или горячего вина – делается он сам не свой и, отуманив, разумеется, ум, развертывает удаль свою до полного очарования дивовавшегося зрителя. Быстрота бешеных перевертов и дерзость прискоков выходят уже из всяких пределов. Что тогда делает он из медведей – мудрено пересказать: звери повинуются ему рабски, мгновенно очарованные пламенем устремленного на них взгляда, истинно адского. Тут уже в кружащейся голове зрителей сливаются в одно и пляски медвежьи, и сверхчеловечья удаль, с мельканьем еще каких-то будто образин, высовывающих языки словно под гул высвистыванья сквозь зубы плясуна. И пока продолжаются эти бесовское крученье, с гиканьем под звуки бубна, и писк дудки вожака – у зрителей только сердце замирает от какого-то дикого непередаваемого ощущения. Жилки все трепещут у самого бесстрашного человека, а оторваться от потехи и разрушить чары нет ни силы, ни воли.
Между тем с плясуном самим после каждого представления стали делаться обмороки, и довольно продолжительные. Он стал реже поддаваться искушению осушить стопу. Отталкивая же от себя ее, он стал дольше упорствовать в отказе выхода на пляску, когда собирались толпы зрителей. А уж между зрителями много наезжать стало хорошего народа, особенно людей торговых, ничего не жалеющих на потеху. Вожак ватажный, выведенный раз из терпения, посулил железный прут упорствующему кабальному.
– Коли не слушаешь упросов, ужо мы те вот чем научим послушанью!.. – да и замахнулся на угрюмого плясуна старик. Не владел он уже собою, как увидел, что народ начал расходиться, прождав напрасно пляски с утра до полдня.
Только и видел свой прут глава ватаги. Поняв сущность угрозы, силач Суббота свил прут этот, чуть не в палец толщиною, в шнурочек меньше четверти да и бросил его в испуганного угрожателя.
– Есть не дадим – смиришься поневоле!.. – решил мнимый слепец, запирая на замок каюту упрямца, который при этом только больше побледнел.
Прошло два дня. Замок не отпирался, да и узник не давал знака, чтобы в чем нуждался или чего желал. Проезжал на ту пору дьяк приказный из Великого Новагорода и стал просить главу ватаги потешить его – показать пляски человечьи с медведями.
– Ваша честь, хоша и прискорбно нам, а должны мы донести твоему степенству, что всей бы душой рады показать это самое… да боюся, с упрямцем ничего не поделать… хуже, чем дерево…
– Какой упрямец?
– Да этот самый проходимец, плясун-от наш, обозлился сам не знает про што и с голоду мрет, а не покоряется.
– Да какой он такой человек есть?
– Попросту сказать, кабальный мой… пошел к нам в кабалу за одиннадцать рублев, в прожиток, да от рук отбился… И вином спаиваем, кажись, вволю, да норовит вельми, и норову самово проклятого: не захочет – ни в жисть не принудишь…
– А коли кабальный – чего же с ним и толковать: в кандалах под плеть! Она, друг сердечный, хоша какую дурь выгонит неотменно. Пробрать бы его только…
– Коли бы милость твоя сам его в чувствие привел?
– Почему не так. Приведите…
Стали стучаться в закуту Субботину, отомкнули замок. Не откликается. Отворили дверь – лежит он ничком, а не спит.
– Его милость дьяк с Новагорода зовет тебя.
– Что ему надо?
– Хочет просить тебя досужество показать.
– Дьяк… из Новагорода? Слаб я от нееды.
– Подкрепись. Вольно же тебе упрямиться да на все серчать, на еду даже.
– Я на еду не серчал, а тебе покориться – ни в жисть.
Явилась закуска и брага и водка. Мнимый слепец, кланяясь, повторял:
– Голубчик, Субботушка, не губи ты моей головушки, не круши себя, кушай, что душеньке угодно. Потешь его милость только. Машенька стосковалась по тебе. От еды, сердешная, отстала. Ей-богу, право!
Суббота принялся за еду, язвительно усмехаясь. Насытился и, отпихнув поставец, встал и спросил: где там дьяк-то?
Набольший поспешил уведомить его милость, что одно упоминанье про его честь возымело надлежащую силу на упрямца, нет сомнения, готового показать свою удаль. Дьяк с самыми приятными ожиданиями встретил рослого молодца, подошедшего довольно развязно и спросившего: зачем звали его?
– Говорят, молодчик, ты горазд с медведями плясать, на удивленье миру крещеному, людям на потеху…
– Тешить черный народ – мужицкое дело; а я сам себе господин!.. – вдруг недолго думая ответил надменно вошедший. – Пока хочу – пляшу!
– Кабальному, как ты, советовал бы я господином не величать себя и старшему повиноваться.
– Кабальному, баешь?.. Не мне, значит. Я сын боярский, и я кабалу не принимал.
– И то лжешь, сударик! – поспешил возразить ласково вожак ватажный…
– Ни в жисть не лгал и тебе не советую.
– Как же не лжешь, коли отрекаешься кабалы, а она у меня за пазухой.
– Может, и есть у тебя, добрый человек, кабала чья ни есть, не оспариваю.
– На тебя кабала у меня, а не чья другая.
– На меня никто кабалы тебе дать не может.
– Ты сам, голубчик, никто другой… за выкуп от кабатчика…
– Я кабалы на себя не давал, и ты не просил…
– За долг, милый человек, кабала дана… за долг.
– Кем дана?
– Тобой.
– Покажи… Не во сне ли я?..
– Изволь… вот она сама; поглянь, твоя милость… – развернув лоскут бумаги вершка в три, положил мнимый слепец перед дьяком.
– Эта кабала как следует! – осмотрев подписи послухов и пробежав глазами, молвил дьяк.
– Имя твое как, молодец?
– Гаврила Суббота.
– И тут так.
Суббота пожал плечами, припоминая, что он никогда себя не называл по имени. Что во хмелю проболтался, он того не помнил и в голову ему не приходило.
– Батьку как величают?
– Незачем батьку знать в моей дурости, – с неудовольствием молвил Суббота, кивком головы выразив полный отказ от ответа на подобный вопрос.
– Милость твоя, государь дьяк, изволишь усмотреть, есть в кабале и отчество… хоша и упрямится малой… теперь некаться зачал.
– Истинно стоит в кабале: Удачин сын Осорьин… – подтвердил дьяк, глядя в листок.
Еще большее удивление изобразилось в чертах Субботы, уничтоженного последними словами.
Дьяк и вожак ватажный переглянулись. Вступая в роль вершителя судьбы ближнего, дьяк, возвысив голос, уже продолжал:
– Видишь, упрямство не помогает… Говори же истину, чей ты такой, подлинно… за каким господином семья ваша записана была?
– Я уж молвил: за великим государем царем нашим Иваном Васильевичем. И отец мой, и я служили в полках по Спасскому присуду Водской пятины; запрошлое лето я до Покрова за Окой стоял… Нам не рука от своей челяди в челядинцы к мужику идти. Вишь, измыслил супостат кабалу какую на меня настрочить!.. Заведомо лжива она… неподобная…
Ватажника передернуло при этих словах, но он рассчитывал улестить дьяка и не терял надежды запутать неопытного хитрыми подходами со стороны приказного дьяка, как он рассчитывал, скорее склоняющегося на ту сторону, где посулы даются. Субботины руки ведь пусты были теперь, у слепца всего вдоволь оказалось бы, коли б потребовала беда неминучая. И, зная это, однако с меньшею, чем прежде, уверенностью мнимый слепец вполголоса возразил:
– Неправо порочит кабалу мой кабальный! То его как есть воровство. Кабала писана по его веленью, на то есть и послухи. Пусть он посмотрит, господин дьяк, у тебя в руках кабалу.
– Пусть… – подтвердил дьяк, оборотив к Субботе лоскут бумаги с письмом.
Суббота в смущении молча устремил глаза – и, читая про себя все значащееся в кабале, вдруг оживился, дочитав до имен послухов.
Перед именем кабального вставлена была оговорка, что за неуменьем им грамоты поставлены три креста.
– Заведомая ложь! – вскрикнул радостно Суббота. – Грамоте разумею я, может, почище того, кто строчил кабалу эту. Сам ты, господин дьяк, коли дашь мне перо, увидишь, как я разводить им стану.
Дьяк задумался. Выяснилось обстоятельство, которого он сперва не принимал в соображение. Стала казаться вероятной подложность кабалы, и при этом, разумеется, возвысилась положительность заявлений Субботы. Невольный вздох вырвался из груди дьяка. Во вздохе этом отзывалось обманутое ожидание потехи. Принужденьем на мнимого кабального мудрено было подействовать, когда как паутина прорывались сети хитреца хозяина, залучившего молодца во власть свою подделкой кабалы. Хитрость внушила, впрочем, дьяку мысль: уговорить молодца потешить его пляской с медведями, хоша в последний раз. За такое удовольствие дьяк вздумал обещать Субботе свое содействие – выпутаться из-под власти ватажника. Способ повести это щекотливое дело сложился в уме дьяка мгновенно с приходом мысли, и он движением руки дал знать мнимому слепцу, чтобы тот оставил его один на один с Субботой в избе. Старик нехотя повиновался, а удаляясь, не раз оглянулся, желая отгадать по движениям остающихся, чего можно было ему ожидать от беседы их.
Дьяк подозвал Субботу и на ухо ему стал шептать:
– Дело, братец, твое такого свойства, что вести его тебе со старым псом нужно озираючись. Потешь, друг, меня пляской-от с мишуками; право слово, помогу. Благодари Бога, что на меня напал… я те ослобоню неотменно… только уважь теперя-тко…
– И вправду, дядюшка, не обманешь? – схватив за руку предлагавшего содействие, с живостью вполголоса отозвался Суббота. – Изволь, потешу в последний раз… Верь Богу, прискучили мне эти проклятые кобенянья. Да еще кабалу выдумал на меня… боярского сына!..
– И взаправду, дружок, ты из боярских детей… из Водской?.. – пытливо уставив маленькие глазки на вопрошаемого, чуть слышно заговорил, еще ближе к нему прислоняясь, дьяк. Он уже не сомневался в том, что потеха удовлетворит горячему ожиданию.
– Взаправду… Отец мой Осорьин Захар, в присуде Спасском на Дятлове живет… выставки корчемные держит.
– Вот оно что! Понимаю, какая ты птица… – отозвался дьяк не без волнения, и при этом в глазах его загорелось что-то зловещее, неприятное.
Этого, впрочем, Суббота не мог заметить, смотря в пол и не подозревая, кому он открывается: другу или врагу. По несчастью, горячо ожидавший медвежьей пляски был один из дельцов, подстроивших отказ Удаче от сбора корчемного, заведомый друг Нечая и губного Змеева. Возвращался дьяк из Москвы, по подаче описных и счетных книг, в приказ Новагородской чети.
При словах Субботы дьяку пришли на память и Нечай, и обида губного, и начатая Удачею борьба с ними, приказными, неизвестно чем могшая кончиться, – и пробудилось желанье насолить ворогу, усудобив сынка в доброе место. За решением же опять не замедлило, под видом дружеского участия, внушение Субботе явиться самолично к ним, дьякам, в приказ в Новагороде. «А как придешь, – думал дьяк, – уж сумеем тебя, за нахожденье в бегах да в прогуле, лет на шесть, на семь бессменно на низовую службу… Там и узнаешь кузькину мать… в чем она ходит… Кабала заведомо воровская… нече говорить… А со старика ватажника опять же не сорвать щетинки нельзя… обидно будет…» – рассчитывал в мыслях своих делец и затем обратился к Субботе, ожидавшему обещанного дружеского совета:
– Я велю старику явить кабалу безотменно в Новагороде и к нам… ты не перечь. – Тут, наклонив к себе голову Субботы, советчик и в ухо ему шепнул: – Там мы старого черта скрутим, а тебя высвободим… как есть. А ты по те места не упрямься. А ватажнику накажу я в город идти и стать у нас в приказе в неделю, на крайний срок… А теперя ты, дружок, попомни просьбу нашу и уважь…
Движением пальцев он докончил смысл услуги, ожидаемой от Субботы за благодарность, и махнул ему рукою, чтобы вышел, когда из двери просунулась в избу голова старого ватажника.
Старик внес на широкой доске, покрытой полотенцами, обильную закуску, где фляги с настойками занимали не последнее место между блюдцами с рыбкой, грибками, блинцами, икоркой и хворостом.
– Ужо, милость твоя, как подкрепишься, мы те удальство Субботино покажем. А Михайлы Иванычи и Марьи Ивановны сослужат служебку на отличку: я им пенничку волью в питьецо.
– А насчет малого не сумневайся, старина. Я его в чувствие привел и все… как есть, наказал из послушанья твоего не выходить. А кабалу ты непременно яви нам в городе, в приказе, неделю с днем проминувши, не больше. Там мы тебе его прикрепим надежно… А как нам привезешь – смотри, чтобы чего самому на ся не всклепать, коли упрется, что рука не приложена да что он… сын боярский!
Умиротворив по наружности обе стороны, находчивый дьяк получил желаемое удовольствие – и, схватившись за бока, не переставал заливаться самым заразительным смехом во все время представления. Удаль двуногого соперника косматых обитателей леса вырывала не раз крики одобренья дьяка, но раз принятое решение осталось во всей своей силе. С приездом в Новагород опытного кривителя весов правосудия сделаны надлежащие приготовления и приняты надежные меры, чтобы ни старик ватажник, ни плясун Суббота не избежали расставленных для них дьячьими руками силков.
В отчине Святой Софии перед тем только получен был указ о наборе на царскую службу к дальним тамбовским засекам не меньше сотен двух детей боярских, бывавших в нарядах и смышленых, чтобы проведывать ожидаемого наезда крымцев.
– Государь, княже милостивый, – докладывая наместнику государеву исполнение по этому наказу, поспешил ввернуть словцо находчивый делец, – теперя-ко ждем мы явки воровской кабалы на одного сынишку боярского… Повели, как явится, приудержать того самого парня у нас в колодничьей… верь Господу, угар такой и проходимец, что лучшего на низовую службу, почитай, и в Москве не найти… А человек, вестимо, заворовался, коли спроворил на себя, на дворянску кровь, кабалу настрочить за одиннадцать рублев московских… мужику.
– Это беззаконье!.. Как Господь грехи только терпит?! – крестя рот, проговорил простоватый наместник. – За одно за это самое художество достоин бити батоги и послать не в очередь в дикие поля… пусть исправится непутный…
– Я тоже бы думал, что поучить не мешало… да не смел милости твоей докладывать: как показаться мог мой совет холопий.
– Чего показаться тут?.. Вестимо, батоги и батоги… Штобы честь не порочил родительскую и холопство выбил из башки непутной.