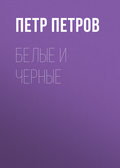П. Н. Петров
Царский суд
– Не клеплю, и нет тут напраслины… Слушай мою исповедь, дядя… Был я у вас уж с царской службы, с Шатскова острога. Летел я Бог один знает как; надеялся, что увижу Глашу… Ворочаюсь. Спрашиваю. Замужем, бают, за дьяком. Теми же пятами я назад, в Москву, – и отдался в опричники.
– Бедняга!.. Из огня в полымя. Слава богу, что отца нет!..
Суббота, к удивлению дяди, не обратил особенного внимания на весть о кончине родителя.
– Заодно погибать, думаю, по крайности, отомщу ворогу!.. Получил власть. Прилетел в Новгород. Нашел дьяка, мужа Глашина. Честный человек был, хотя и ворог, не заперся! Я на его медведя пустил… Он…
– Суббота!.. Да ты взаправду кромешник! – вне себя от негодования, отозвался дядя. – Не родня мне, изверг!
– Как хочешь… это твое дело!.. Я не напрашиваюсь и не отрекаюсь от родни. Дослушивай, не все еще.
– Что же еще? Коли медведь пущен, ведомо, задрал…
– Я велел оттащить, пусть с чистым покаянием, лучше, думаю… Глаша вдова остается. Наутро нашел, открылся… Она прокляла меня… И ты проклинаешь… Теперь мне все одно… Сыну погибели одна дорога!
И он истерически захохотал, так что встал волос дыбом у честного Истомы.
– Одумайся, Суббота, иди в монахи… Замаливай.
– Нет прощения трижды проклятому… Таня… Ты… Глаша… Не могу вынести… – И, зарыдав, вне себя, несчастный грохнулся на пол без чувств.
XI
Трагедия из комедии
За радостью горе вослед,
И нет уж конца лютых бед!
Рождественская мистерия
Ночь. Темно в проходе перед ложницею царской, освещаемой тремя лампадами. Мертвая тишь нарушается легким храпом спящего спальника, не мешающим слышать отчетливо отрывистый полушепот из темного перехода. Иоанн не спит, вслушивается в смысл отрывистого сонного бормотанья и по мере вслушиванья делается беспокойнее. Вот встает державный, зажигает тонкую свечку на лампадном огне и с зажженной свечкой в руке направляется во мрак прохода, где, растянувшись навзничь, с закаченной назад головой и сжатыми судорожно кулаками, словно бросаясь в драку, тяжело дышит, по наружности в глубоком сне, Алексей Данилович Басманов. Грозный остановился над ним и продолжает вслушиваться в мнимосонный лепет временами вздрагивающего хитреца. Наконец, овладев собой, схватывает Басманова сильной десницей и поднимает его, грозно крикнув:
– Давай мне доносчика!
Очередной спальник Истома Безобразов, пробужденный этим криком, со страха подкатился под царскую кровать. Он со своим тюфячком под мышкой оставил державного наедине с его любимцем, не ведая причины вспышки, но зная на опыте невыгоду оставаться на виду в минуту царского гнева. Иоанн тормошит Басманова, не вдруг, по расчету, приходящего в себя, как бы подлинно после сна…
– До-нос-чик?.. Государь… Д-а-й бог память… Был я где? Д-да! Ватажник медвежий баял со стремянным вашим, с Осетром, что прибыл в слободу… Он… со мной!
– Што же ты себе пережевываешь во сне про измену, ворон, а нам, государю своему, не донес слышанное?
– Кругом виноват, надежа государь… Коли во сне соврал што, не клади опалы… Повели правду сущую исповесть… Прослышав про измену якобы, так баял мужик, не поверил я прямо… Думаю, може, по насердку клевещет, воеводу клевещет твоего да стремянного нового… А поруки где сыскать, что доподлинно так и есть? А во сне-от, не положь гнева… Сам не ведаю, как оно это самое прорвалось… Вижу, надежа государь, воочию, якобы законопреступники меня не чуют и, сами страх Божий отнемши, с панами торг ведут, словно мытники, наддачи требуют, продают твою отчину Новгор…
– Молчи, змея…
– Я, государь, и не поверил наяву, а во сне, вишь, бог попутал… Какой грех вышел…
И он показывал все признаки отчаяния.
Искусная игра возымела успех. Иоанн несколько успокоился и послал привести немедленно доносчиков на новгородские власти.
Услыхав приказ, захлопотал, словно выросший из-под земли, Григорий Лукьянович Бельский, прозываемый за свой гигантский рост, в шутку, Малютой, по отцовой кличке – Скуратовым. Редко так точно и спешно выполнялись царские повеления, как теперешний приказ о приводе доносчиков.
Явились они, будто находясь где близко и уже давно дожидая ввода перед царские очи.
Ватажник, однако, невольно потерялся. Не мгновенно исполнил он приказ царский подойти поближе и стать подле самого свечника. На свечнике этом ярко горели полторы дюжины свечей, разливая сильное сияние на ближайшие предметы на таком расстоянии, как поместился от огня ватажник. С другой стороны свечника стал достойный клеврет его, Волынец, воровские маленькие глазки которого забегали теперь с ускоренной быстротой. Долго смотрел на эту пару Грозный в ожидании прихода старшего сына своего, ничего не говоря и только вглядываясь в лица пришельцев. Тщательный осмотр их в уме Грозного, однако, был не в пользу представленных, так что это не укрылось ни от Басманова, ни от Малюты, мигом сообразившего, что горячо поддерживать доносчиков, по меньшей мере, неразумно. Это решение, созревшее у опытного злодея, определило систему его действий. Мгновенно чутким ухом заслышав издали шаги наследника, Малюта ловко юркнул в мрак перехода. Шепнуть на ухо красавцу Борису, несшему посох и рукавицы царевича Ивана, что сбирается Басманов морочить великого государя какими-то проходимцами, было делом одного мгновения. Впрочем, шепот на ухо любимцу имел возможность расслышать и сам царевич, оттого он при поклоне родителю, остановясь рядом с ним, и кинул презрительный взгляд на новые лица мужиков. Взгляд царевича был полон злобы и злорадства даже, послышавшегося вдруг в звонком смехе сына государева при вопросе: «Никак, эта сволочь, батюшка, не дала тебе опочивать?» Иоанн неохотно ответил сыну:
– Не малость до ушей моих дошла; слушай, что, говорят, затеяли нечестивцы!.. Говори ты первый, – приказал сухо Грозный Волынцу, не скрывая, впрочем, своего нерасположения, навеянного обзором наружности его.
Петруха не заставил повторять приказа – и заученную сказку, речисто, не борзяся, стал резать без запинки, как по столбцу, излагая мнимый сговор новгородцев и все подробности. Проговорив до конца так тонко соображенное, он остановился на словах:
– Больше ничего не знаю – и греха брать на душу не хочу.
– И то довольно наврал, – с загадочной какой-то интонацией отозвался царевич.
На лице Грозного выразилось неудовольствие против сына.
Царь уже был в возбужденном состоянии, не оставляющем места хладнокровному разбору, при котором виднее шаткость натянутых доводов и недостаточность логической основы задуманного.
– Осмеять все можно, и ложь находит, пока шутка шутится, а взаправду коли – недоверья одного мало, – проговорил он, хмурясь.
– Нужно убедиться доподлинно, может, и не ложь будет, надеясь на свое влияние на Грозного, – поспешил ввернуть слово Басманов.
– Допытывать коли повелишь, государь, истину со дна добудем, – отозвался грубо Малюта – и от слов его передернуло ватажника и Петруху. Зверский взгляд допытчика дополнил смысл этой угрозы: какого рода может быть это искание истины.
Сам Басманов почувствовал невольную дрожь, мурашками пробежавшую по коже опытного царедворца. Он понял, что Малюта теперь пойдет против него; следовательно, предстоит выдержать борьбу, исход которой не мог обещать сразу удачи. Как знать? Робкий взгляд, вскользь, на царевича мог только усилить опасения, не внушив надежды на поддержку с этой стороны. Здесь влияние ясно тяготело к красавцу Борису. А ему благообразный Алексей Данилович, чтобы порадеть сыну, подставлял не раз ногу. И если злобно улыбающийся теперь красавец не падал, то это не значило, чтобы, осторожно выбирая почву, не чувствовал он, что не случайно спотыкается на гладком месте. Слишком тонок был Борис, чтобы не почуять соперничества молодого Басманова, пристроенного к царю-отцу, когда его оставляли при царевиче-сыне. Знали между тем, что Грозный этого любимца сына сам ценил не ниже его.
Так и теперь внезапное неудовольствие напуганного отца на сына, у которого вырвалось восклицание, не соответствующее с настроением минуты, не укрылось от Бориса, и тонкий голосок его шепотом долетел до царских ушей. А шептал любимый царем молодой голос Бориса, вкрадчиво и внушительно относясь к Малюте:
– Григорий Лукьянович, прими прежде меры против клеветы! Если же найдешь ее, открой цель застращивания.
Грозный милостиво поглядел на Бориса и дал приказ:
– Так возьми обоих доносчиков, Лукьяныч, и на месте сам осмотри их донесенье.
Благо было бы всем, если бы умный совет Борисов не истолковал по-своему Малюта, забравший себе в голову прежде всего погубить Басманова. Чтобы сделать это, нужно было припутать к этому доносу его самого.
Как это сделать, Малюта поставил себе задачу, уезжая в Новагород. В прямой же переход его в польские руки он верил всего меньше.
С этими мыслями, крепко засевшими в голову, выехал наутро боярин Бельский с казначеем Фуниковым из слободы.
Перенесемся в Новагород в памятное утро прибытия туда царских посланцев из Александровской слободы.
Именем царским потребован воевода ко владыке, где сидели уже Малюта с Фуниковым. Явился воевода. Собрались конецкие старосты и бояре владычные.
Малюта встал и молвил:
– Господа власти, идемте ко Святой Софье. Там я доложу волю государя нашего, великого князя Ивана Васильевича.
Почти всех слова эти озадачили… Что бы такое было? Что за новости во Святой Софье поведает боярин?
– Глянь-ко-те, идем мы – и за нами кибитка едет с опричными людьми и со стрельцами, – говорили друг другу новгородцы, идя в собор.
Перекрестясь, вступили все в святое место. У очень многих сильно забилось почему-то сердце. Ретивое – вещун, недаром говорит пословица.
– Все здесь? – зычно крикнул Малюта, когда толпа сановников остановилась под куполом храма.
– Все, – отвечал кто-то неуверенно.
– Петр и Тарас, делайте свое дело! – еще раз крикнул Малюта, и двое колодников в цепях, выступив вперед, пошли на солею перед царскими вратами.
Потребовалась лесенка. Петр взлез на нее и стал отдергивать гвоздики у ризы на иконе Царицы Небесной. Внимание всех напряжено до высшей степени.
– Готово, государь, Григорий Лукьянович. Повели изымать кому ни на есть! – крикнул Волынец, отогнув край иконной ризы и спустившись наземь.
– Господа власти и лучшие люди новгородские, – обратился Малюта к представителям новгородским. – Государь и великий князь Иван Васильевич повелел вам избрать между вами, кому вы доверяете, для одного дела… Назовите вы мне этого избранника вашего!..
Начался шепот – и после перемолвок выдвинули старосту Плотницкого конца, мужа сановитого, пользовавшегося общим почетом в городе.
– Изволь, боярин, влезть по лесенке к иконе Богородичной, к Знаменью, – обратился к выборному Малюта.
Тот повиновался. Остановясь наравне с иконою, он оборотился, ожидая приказания.
– Заложи руку под ризу, где отогнуто, и поищи: нет ли между иконой и ризой чего ни на есть, и буде ущупаешь – вынь и неси сюда…
Слова эти прозвучали в мертвой тиши. Никто не смел дохнуть при возбужденном донельзя ожидании. Глаза всех обратились на икону и выборного. Запустить руку под ризу и вынуть оттуда столбец бумажный было делом одного мгновения. Со столбцом в руке подошел доставший его к царским посланцам и стал подле них. Малюта развернул столбец до начала и, подав достававшему, велел читать вслух, громко.
Уже сразу всех поразила форма какого-то договора с кем-то.
Удивление слушавших росло с каждым новым словом никому не ведомых условий. Будто бы заключены они от имени отчины Святой Софии с польским королем Жигимонтом: о предании Великого Новагорода ему, ляшскому владыке.
– Да это совсем неподобное дело… – прошептал вне себя сам читавший и бросил свиток.
– Читай!.. – крикнул с яростью в голосе Малюта. – Не кончил еще, не все…
Страх сковал уши слушавших данный перечень рукоприкладств; при произнесении своего имени каждый из присутствовавших невольно вздрагивал.
– Слышали?.. Что скажете?.. – спросил Малюта тем же грозным голосом, которым приказывал продолжать чтение, когда кончил чтец.
Пожиманье плечами да отрицательные покачиванья головой вместо слов были ответом на настоящий вызов.
– Посмотрите поближе подписи: похожи ли на ваши? – вставил Фуников, озадаченный не меньше новгородцев.
– Я не писал, а подпись свою по сходству отрицать не смею, – отозвался первым сам чтец, скорее других, как видно, пришедший в себя. – Кто это сделал, твоему благородию, господин боярин, конечно, известнее? А что сделано воровски – это ясно.
– Стало, ты, боярин, заподозриваешь подлог?.. Изрядно! Укажи же признаки, так, говоришь, тебе ясные?
– Ясны они, боярин, будут и тебе, коли изволишь принять труд рассудить, что все здесь написанное не имеет основы. Разве приговоры без повода пишутся? Где же указаны поводы богопротивного дела, допуская – даже для пристрастного судьи – неподобность во многих уликах? Здесь ведь ни одного повода нет! Стало быть, клевета не сумела даже сговор свой подкрепить никаким доказательством, которое бы подтверждало способность поверить лже беспутной. Чем же, к примеру сказать, воровской приговор являет свою подобность? Говорится ли о нарушении явном прав наших Москвой при настоящем владыке, либо сказывает ли приговор о нестерпимых притесненьях, не вынеся которых мы очертя голову пустились к пропасти ляшского владенья? Либо имеем мы в виду иного правителя, которого поддержат ляхи как подручника их, а нам за им жить будет на всей на нашей воле.
– Довольно!.. – крикнул Малюта. – Сам злодей, изменник, выдал себя своим словоохотством… Договорился…
– До чего же я договорился? – спокойно, сдержанно, но решительно отозвался чтец. – Я высказываю воровство поддельного приговора, на котором времени даже не обозначено…
– Кажется, есть… – вполголоса отозвался про себя Волынец. От Малюты не скрылась эта его самовыдача; и хваток за руку Тарасом не остался тоже незамеченным для рысьего взгляда Иоаннова допытчика.
Он сообразил мгновенно, в какое положение ставил себя, и, ловко обратив в грубую шутку свою укоризну, поспешил засмеяться, ответив оскорбленному, задабривая:
– А ты, боярин, и не понял, как мы заводим тенета к изловленью вора подлинного, якобы переходя на его сторону?.. Одарил тебя Бог умом-разумом супротив других прочих, стало, не след тебе заключать, что и мы можем верить легко сказкам. Доводы твои кто же не признает правыми? Наше дело, как ты говорил, воистину докопаться до виновников сговора и до писавших его; да насчет рукоприкладств: как и чем сделаны? А самой-от приговор возьмем в Москву, так как за им присланы мы от государя. Велит он разведать, как и очутиться тут мог, в неподобном месте, и для чего…
– Известно, для воровства!.. Попы-писаки… Кто ж, окромя них, засунуть может за икону? – отозвался благосклонным, но каким-то нестерпимо обидным тоном казначей Фуников, давно уже озиравший соборную утварь, свечники и ризы на иконах чистого серебра и золота.
Как бы не слыша его и случайно остановившись, Малюта продолжал ласковее, насколько позволял ему грубый голос:
– Наше дело представить государю, что здесь было, воровство указать несомненное да получить приказ: что дальше делать? Перед вами все было – мы тут ни при чем… Прошу о виденном не калякать раньше.
Суровый взгляд, брошенный при последних словах, шел вразрез с предыдущим задабриваньем. Впрочем, объясняемые каждым по-своему, все признавали слова эти не предвещавшими особенного зла, а только угрозу в предотвращении пустых толкований о том, что должно оставаться не для всех известным.
Эта успокоительная прелюдия, к несчастью, в дальнейшем развитии трагедии оказалась только пробой почвы со стороны затягивателя узла, каким был Малюта Скуратов, мастер своего дела.
Вечером в этот день, увозя с собой из Новагорода связанного софийского ключаря, ничего не могшего ответить на вопрос, как очутился за иконой приговор, тоже не выпускаемый из рук, Бельский позвал на пару слов Волынца.
– Твоя работа доведена только до половины. Написал ты приговор без числа затем, что отложен он до принятия князем Владимиром подговора на правление в Новагороде… Где же лежит такой подговор?
Петруха затрясся, слушая эти слова, показавшие ему, что Малюте стряпня его вся открыта и поздно запираться на подделке.
– Не знаю ничего больше… – отозвался бездельник с усилием.
– Кнутья да спицы у нас есть, чтобы подновить твою память… Я, впрочем, торопить не буду до приезда в слободу. А коли понадобится этот приговор и захочется тебе противенек снять, для памяти, што ль… во всякое время я готов дать. В Твери мы остановимся на трое суток. Времени довольно. А коли не будет подговор явлен каким новым парнем, до последнего стану, перед слободой – колодка на шею наложится в пять пуд со стулом. И рот, кстати, заклеплется надежно, до передачи в катские руки. Помни же!
В последний вечер в Твери Малюта воротился с Отроча-монастыря гневный и крепко озабоченный. По себе судил он других до сих пор безошибочно: отплатить злом за зло – так праведно! Тем паче воздать клеветнику, низкому подкапывателю под доброе имя.
В первый раз в жизни приходилось теперь убедиться ему, что есть упорные люди, говорящие «нет» на вопрос: зол ли человек, им плативший за добро злом?
В Отроче-монастыре заключен был бывший митрополит Филипп. Пал он вследствие целой сети клевет. Эти клеветы измышлял искусный мастер их, архиепископ новгородский Пимен. Филипп знал это, но на вопрос Малюты подтвердить зло, ему нанесенное Пименом, ответил:
– Не знаю!
Эта запинка в выполнении плана, решенного в голове Малюты, стоила жизни Филиппу, однако стойкость праведника осталась все же загадкой для черной души Григория Лукьяныча.
– Ему же пользы искал: государь призрел бы на смиренье, попамятовал бы, что крутенько повернул: не так надо было – так нет, упорствует! Не знаю! А сам, может, сто раз говаривал, что по милости сватушки, князя Владимира, из чернецов наверх вышел… Ловок Пимен, неча сказать. Да и мы не олухи! Басманчика заставим болтаться между небом и землей. Заодно уж пусть тогда дрыгается взаправь, а не лицедейски, как в напущенном сне в царской ложне…
Высказывая вслух свои планы и неудачи, Малюта вздрогнул, почуяв, что он не один. Броситься вперед, схватить за шиворот мужика, который, притаивая дыханье, стоял перед дверью из сеней во мраке, было для всполошенного делом мгновения. Рука, державшая находку, так же мгновенно распустилась, когда схваченный оказался не кто другой, как Петруха.
– Готово, значит? – осклабившись зверски, спросил Малюта.
– Принес целовальник один досканец, не угодно ль глянуть? Нет ли нужного? В кабаке, говорит, убили вечор мужичка разгульные люди каки-то. Убитый, вишь, пробирался проселком в Старицу с Новагорода и нес за пазухой доскан…
– Вижу взаправду, что ты парень мастероват на все руки… Увидим ужо, что там… – и сам внимательно пробегал хитро придуманный новый образец искусства Волынца – подговор по заказу.
– Никак, впрямь подговор! – выговорил Малюта весело и доброжелательно, дочитав до конца. – Находишь ты, брат Петруха, истинно в пору и в меру, что может потребоваться!
– Придется в меру, коли кнуты да спицы обещаны, да колодка, да в зубы затычка.
– То на упрямцев, а таким молодцам, как ты, – московки в мошну да царская милость.
– И вольно будет душу отвести?
– Чем угодно, окромя обношенья воевод.
– Не Басманчиков…
– Язык держать за зубами – первое дело! – перебивая его, заговорил с важностью Малюта. – Нужно знать, не Алексея ли Басманова, завзятого скомороха, были развеселые, убившие мужика с досканом?
– В его селе, над Тьмакою, – поспешил отозваться Петруха.
На непересказ вполне всех вопросов и ответов в этот вечер, во время этого своего рода допроса, – мы полагаем, читатели наши не посетуют. Малюта крепко прикрутил новым подделываньем к мнимой измене новгородцев ничего не думавшего князя Владимира да вместе с ним Алексея Басманова и архиепископа Пимена.
Мертвецки пьяный Петруха очувствовался наутро в пошевнях, летевших вскачь окольными путями, минуя Москву, в слободу Александровскую.
– Что привез: добро или зло? – увидя коварного Малюту, спросил бывший уж до того не в духе Грозный.
– Больше зла, чем добра, открывается, – загадочно и уклончиво отозвался разыскиватель. – Одно добро: не увернуться будет теперь и твоему врагу, брату двоюродному!.. Ни твоему скомороху Алешке, – дерзко и решительно отрезал Малюта.
Иоанн побледнел и, взяв за руку страшного доносчика, увел в свою образную.
Начался шепот, перерываемый вздохами царя. Иоанн при чтении поддельного подговора, видимо, крепился; он то бросал чтение, то кидался на колени перед образом, то вставал и, порывистыми движениями проявляя больше и больше овладевавшее им бешенство, произносил угрозы и проклятия. Снова успокаиваясь немного, принимался читать хитро составленную мнимую договорную грамоту. Наконец царь осилил ее, но уже находясь в таком положении ярости, при котором вылетают вместо слов междометия. Смысл их поясняли злобно вращаемые очи, налитые кровью.
Малюта не дремал. Послав за врачом царским Бомелием, приготовлявшим не один уже раз сильные яды, он наказал ему приготовить две, равной величины, чаши с мальвазией. Проходимец-врач, пользовавшийся чуть не безграничной в ту пору доверенностью Иоанна, силен был в изобретениях по части токсикологии – и на этот раз употребил для растворения в чистом греческом вине теплую неаполитанскую воду, изобретенную незадолго до того знаменитой отравительницей. Вино с этой водой получало приятный яркий цвет рубина, подернутый по краям чаши поясом мелких пузырьков густой пены.
Наступил вечер, а царь не прикасался к яствам накрытого стола семейного. Тускло горели оплывшие свечи в мертвой тиши светлицы царской, когда донесение, что приехал внезапно призванный князь Владимир Андреевич с супругой, подняло недвижно до того сидевшего Иоанна с его царского седалища. Бледный, со сверкающими глазами и нервною дрожью, страшен был в эту минуту Иван Васильевич. Грозным представлялся он теперь и членам своего семейства.
Старший сын, идя рядом с дядей, как-то боязливо ступал по ковру отцовской светлицы. Княгиня Владимирова почувствовала вдруг овладевшее ею тяжелое волнение от внезапного ужаса.
Вот подошли они к столу – и Иоанн, встав со своего кресла со злобой, перешедшей все пределы, вне себя, прерывавшимся голосом проговорил:
– Привет великому князю новгородскому и его великой княгине!
– Что это значит: такой прием и такие слова? – робко, но с достоинством отозвался князь Владимир Андреевич.
– Это значит, – громовым голосом разразился Иоанн, – что твоя измена вся мне известна и пришел час расплаты! Бомелий! Подай чаши князю и княгине… Мы их поздравствуем.
При произнесении имени Бомелия несчастный князь Владимир понял значение этой заздравной чаши и, с отвращением отстраняя ее от себя, молвил:
– Наш закон христианский запрещает нам класть на себя руки. Пусть отравят нас другие, а не мы сами. Волею чаши этой я не приму…
– Заставлю, так выпьешь!.. – крикнул Иоанн, трясясь от злобы.
– Не все ли равно, что заставляют пить, что льют в рот? – сказала величественно супруга князя Владимира. – Грех смерти ляжет не на тебя, милый, а на того, кто велит нам пить.
Бомелий приступил еще ближе с роковыми чашами. Князь Владимир подался назад, ища как бы в глазах племянника опоры и защиты. Царевич, поникнув головою, дрожал от ужаса. В глазах княгини блеснула слеза скорби. Превозмогши ее, она твердо взяла чашу и выпила, сказав мужу: «Прощай!»
Князь Владимир зарыдал; опустился на колени; горячо молился несколько мгновений и потом, взяв чашу, сказал Иоанну не без горечи:
– Умирая от руки твоей невинным, призываю тебя к ответу перед Страшным Судией.
– Пусть нас там судят, а теперь мой суд совершился над тобой, изменником и врагом моим! – жестко выговорил Грозный и махнул рукою, чтобы увели чету отравленных.
Поворотясь затем, чтобы уйти самому, Иоанн увидел подле себя Алексея Басманова.
Как бы стряхивая ядовитое насекомое, Иоанн стал обмахивать рукава своей ферязи и голосом, полным жестокости и отвращения, указав гневным взглядом на недавнего своего любимца, проговорил скороговоркою:
– Раздавить эту гадину, чтобы, после злодея брата моего, и об этом больше не поминать.
– Государь, чем я прогневил тебя! – крикнул было ловкий придворный, но тяжелые рукавицы двух кромешников по указанию Малюты зажали ему рот. С этой минуты не стало ни слуху ни духу про Алексея Данилыча.
Рассказывал наутро Гагара-кромешник своему приятелю, такому же извергу Шипуле:
– Вечор праздник был на нашей улице. Григорий Лукьяныч Федьку Басманова посылал батьку повершить. Вот бы ты посмотрел, какую рожу скорчил он! Прикинулся, якобы не понял, да как дядюшка зыкнул вдругорядь – пошел, покачиваясь, делать нече…
– И справил все как следует?
– У него спрашивай, милый человек… Я почем знаю… Видал сегодня – мертвецки пьян, а на роже ни кровинки. Вот, значит, лихой молодец!
– Да, брат, избави бог нас с тобой от такой участи… Родной сын?!
В то время, когда происходил этот разговор перед жилищем Григория Лукьяныча Бельского, он потребовал к себе стремянного Осетра.
Страшно переменился Суббота в эти немногие дни после встречи с дядею. Похудел он, постарел, и в кудрях показался серебряный отлив. Выражение лица получило бóльшую сосредоточенность, но при этом и бóльшую жестокость.
– Я звал тебя, Суббота, чтобы взять с собой. Едем мы попрежь великого государя. Нужно шею свернуть одному ворогу-упрямцу. За твою неудержь, что дьяка затравил в Новагороде, есть случай теперь заслужить полное отпущенье: сверни шею старому коршуну и – квит будешь со мной. На случай, коли сердце не выдержит и пустится на новую расправу с ворогом твоим, – я заступа, не выдам!
– Все едино мне теперь, боярин Григорий Лукьяныч… На душу грехов набрал – а покою по-прежнему нет. Не только не стал бы просить защиты али ухорони себе, а, пожалуй, попрошал бы скорее со мной порешить… Ноет ретивое и покою не дает ни чуточки!.. Да и какой покой прóклятому?..
– Молодо-зелено! – с участием как бы молвил хитрый зверь Малюта. – Поживешь с мое и бросишь всяческую блажь!.. Проклинают не тебя одного, а всех нас, царских слуг, вороги державного, да нам-от что? Собака лает, ветер носит… Были бы на нашем месте, сами то же бы делали, а на нас одна слава… Будь же готов, дружок! Я знаю тебя как хорошего товарища, а ворогов царя целая тьма… Я один верю тебе и защищаю, да царь-батюшка. Ужо воротимся с Новагорода – укажу я тебе твоего клеветника и обидчика.
Эта доверенность и как бы расположение Малюты на разочарованного, тоскующего Субботу не произвели никакого впечатления. Болезненное воображение его представляло ему попеременно то Таню с мечом в груди, шепчущую проклятие, то честного дьяка, один вид которого внушал доверенность и расположение. Наконец, свидание с Глашей и ее проклятье, представляясь так живо, и днем и ночью, и в дремоте и при бдении, но в состоянии глубокого забытья о всем окружающем, истомили вконец Субботу, почти лишенного сна. Если слетало успокоение на утомленные члены страдальца, то во время срочных хлопотливых поручений, сила значения которых не давала ему возможности оставаться наедине с собой и входить в себя, если можно так выразиться.
Взятие Субботы Бельским было именно таким положением в его безысходной муке, когда физические труды и хлопоты пересиливали духовную сторону. Не отказывался уже он ни от какого поручения, по первому зову вставая и идя куда велено, без отговорки и промедления, как послушное орудие воли других, как машина.
Вот спит он в прохладной монастырской сторожке Отрочьей обители, не так давно воротясь с поездки, продолжавшейся дня четыре. Тяжелое дыхание спящего давало право заключить безошибочно, что его томит страшное сновидение. Под болезненным тяготением сна вздрагивает Суббота, ежится и крепче прижимается ничком к оголовку. Что же видит он? Воочию представляется ему иерей Герасим, исповедующий и заклинающий о примирении с врагами. Суббота не кается и готов поставить на своем. Исповедник понижает голос, истощив всевозможные доводы, как вдруг голова игумена обращается в Данилу-дьяка и голосом Герасима укоряет нераскаянного: «Не думая прощать, ты дошел до тиранства надо мной, безвинным!»
– Сознаюсь! – спросонья кричит Суббота и просыпается от теребленья будившего опричника.
– Сам зовет!
– Иду.
И, шатаясь, не вполне еще освободившись от впечатления сна, вступил Суббота в келью своего нáбольшего.
– Иди с этим вожаком на конец монастыря. Введут тебя к старику и оставят. Ты его, понимаешь? – указал Малюта себе на шею и сделал руками движение, как следует крутить, крепче и разом.
Вышли. Довел вожак до порога; отворил дверь и отошел. Суббота шасть вперед. При свете лампады видит убогое ложе – и кто-то лежит в дремоте, седенький.
Подойти, сжать шею, как показал Малюта, не было бы большого труда, если бы лежащий вдруг не вскочил – и голосом подлинного, живого Герасима, так часто раздававшимся в ушах Субботы и потому неизгладимого из его слуха, не вскрикнул: «К злодейству приводит немилосердие!»
Суббота не мог выносить этого голоса и не помня себя бросился назад и упал без сил. Малюта был недалеко. Рассвирепел было, но, заметив, что чувства оставили его орудие, сам пошел безотлагательно выполнить свой умысел. Герасим – это был он подлинно – выгнан вон. Келья приперта. Филипп молящийся найден и удушен.
Выйдя из кельи Филиппа, Малюта счел нужным раскричаться, созвал монахов и настоятеля. В ужасе они не думали возражать или перечить страшному давителю, пустившему в ход явную ложь.
– Эк вы как жарите печи в келье старцевой! Никак, уж уходили его в чаду? Вошел я к нему, говорю, – не слышит будто. Подошел, глядь – он не дышит. Государь как узнает – разгневается!
Игумен и старцы только руками развели, поспешив приготовлением к погребению.
Все монастырские молчок о том, что произошло. До потомства дошел подвиг Малюты через притаившегося где-то Герасима, потом, при других порядках, рассказавшего кончину праведника.