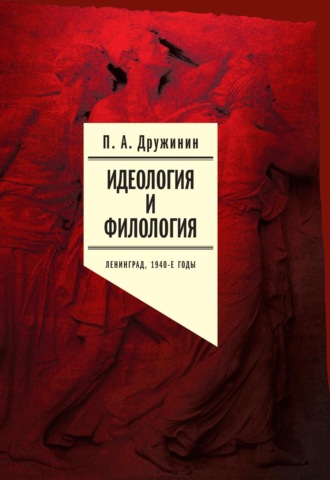
Петр Дружинин
Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы. Документальное исследование. Том 2
Б. В. Томашевский во главе литературоведов‐формалистов
После статьи А. К. Тарасенкова в «Новом мире», в которой он «вскрыл» космополитизм в литературоведении, все «попугаи Веселовского» моментально получили непонятный ярлык «космополитов». Этот термин в 1948 г. не столько ассоциируется с национальностью (лишь с января 1949 г. он вместе с прилагательным «безродный» станет знаменем погромщиков), сколько синонимичен раболепию и низкопоклонству перед Западом: «Всякие научные аналогии были окрещены “космополитизмом”, термином, которому придавали страшное (“политическое”) значение»[115].
Именно с этих позиций написана редакционная статья «Литературной газеты» в номере от 20 марта 1948 г. – В. В. Ермилов должен был отразить в газете линию аппарата ЦК:
«…Революционным и материалистическим традициям передовой русской критики противостояла буржуазно-либеральная наука. Одним из “столпов” этой науки был А. Веселовский.
Литература под пером Веселовского теряет свой живой, человеческий, общественный, свой национальный характер. В его работах она предстает перед нами вне времени и пространства. Реальная жизнь с ее классовой борьбой, с ее жестокими противоречиями, столкновениями различных социальных групп, жизнь, взятая в ее бурном, революционном развитии, с ее набатным гулом народной борьбы за свободу, – все это остается где-то там, “внизу”, все это уже совсем неразличимо. Взгляд ученого-космополита воспаряет вверх, он скользит над жизнью, он витает в мире мертвых абстракций, условных схем, неизменных, устойчивых сюжетов. Холодными, равнодушными глазами окидывает он бессмертные художественные творения, в каждое из которых писатель вложил свою душу, свои заветные, кровные мысли, чаяния, надежды, призывы. Чуждый народу, такой ученый чужд и национальной гордости»[116].
После такого вводного раздела неминуемо появлялся с мешком на голове тот, кто будет представлен в качестве ученого-космополита широкой читательской аудитории. В данном случае им оказался профессор филологического факультета ЛГУ пушкиновед Б. В. Томашевский:
«Вредная и лженаучная концепция А. Веселовского является не чем иным, как одной из разновидностей буржуазного космополитизма. Именно отсюда идут у последователей Веселовского и отрицание своеобразия могучей русской национальной культуры, и рабское низкопоклонство перед иностранщиной, и бессмысленная “охота за параллелями”, формальными соответствиями в литературе разных народов. Перед нами статья Б. Томашевского “Проза Лермонтова и западноевропейская литературная традиция” (“Литературное наследство”, т. 43–44. М. Ю. Лермонтов. 1. М., 1941). В небольшом вступлении автор пишет о русской литературе:
“Пути ее исторического становления подлежат исследованию с двух сторон. Основным фактором ее возникновения, роста и созревания явились условия русской жизни той эпохи; отдельные этапы ее развития должны быть изучены и осмыслены в свете этих условий, в свете социальной и культурной обстановки того времени. Вместе с тем, русская проза 30‐х годов формируется не изолированно, а в теснейшей связи с прозой западноевропейской, используя ее исторический опыт. Таким образом, возникает еще один аспект исследования – историко-литературный в узком смысле этого слова; в этом аспекте и строится настоящая работа”.
Если верить Б. Томашевскому, русскую литературу, оказывается, можно изучать “и так, и этак”. Можно изучать ее развитие в свете социально-исторических условий. Так изучали нашу литературу Белинский, Чернышевский, Плеханов. Такому пониманию литературы учил нас Ленин, учит И. В. Сталин. Но можно, видите ли, изучать литературу и по-иному, – отбросив социальные, классовые, исторические понятия, искусственно отделив литературу от породившей ее жизни, безжалостно откинув все, что выходит за пределы чисто литературного ряда и хоть чем-нибудь напоминает о живой, общественной жизни. Так изучал русскую литературу А. Веселовский. И именно так предлагает изучать литературу проф[ессор] Б. Томашевский.
Наша русская жизнь с ее непрерывными, напряженными духовными исканиями, с незатихающим народным движением против гнета и насилия, многовековая борьба за всеобщее счастье, борьба с чужеземными “трехнедельными удальцами” и с русским самодержавием – душителем народной свободы, – все это нисколько не интересует ученых-космополитов, все это они пытаются отбросить, как нечто второстепенное, маловажное для науки.
А вот мелочное, крохоборческое сличение отдельных фраз и оборотов, выяснение, откуда взял или мог взять русский писатель ту или иную мысль, у кого он ее позаимствовал, какой международный “маршрут” проделала та или иная художественная деталь или мотив, – это, по уверению космополитов, и есть подлинное литературоведение»[117].
А на следующий день, 21 марта, Борис Викторович был проработан в газете «Известия» – там была напечатана статья М. М. Корнева[118] «С формалистических позиций», где рассмотрены статьи пушкиноведов С. М. Бонди, Б. В. Томашевского и А. Г. Цейтлина, вошедшие в сборник ИМЛИ «Пушкин – родоначальник новой русской литературы» 1941 г. Причем Б. В. Томашевский предстает главой литературоведов‐формалистов.
«Реакционные классы и их идеологи всегда стремились скрыть от народа свободолюбивые, демократические традиции русской литературы – традиции Радищева, Пушкина, Герцена, Белинского, Чернышевского, Некрасова, Салтыкова-Щедрина. Злостно извращая идейное содержание и общественное значение их литературного наследия, буржуазные литературоведы стремились в своих “исследованиях” лишить русскую литературу высокой идейности, ее национальной самостоятельности, пытались низвести ее до уровня ученической, подражательной и зависимой от иностранных источников. В этих походах против наследия русских классиков, как известно, не последнее место занимали и формалисты.
Литературоведы-формалисты провозгласили безыдейность литературы основным принципом своей эстетики. В своих “трудах” они пропагандировали “независимость” художественной литературы от общественной жизни, поощряя тем самым стремление наиболее отсталых писателей уйти от современности в мир “чистого искусства”, безыдейности и аполитичности.
Реакционная сущность формалистических теорий давно уже разоблачена советской критикой. Однако формалистические влияния еще не окончательно изжиты и в наше время, в особенности в работах по изучению наследия русских классиков. В этом отношении весьма показательны статьи о Пушкине, принадлежащие Б. Томашевскому, С. Бонди и А. Цейтлину – литературоведам, проделавшим большую и нужную текстологическую работу, но допустившим крупные идейные ошибки в попытках раскрыть и объяснить художественное и общественное значение творчества Пушкина.
В статье “Поэтическое наследие Пушкина” Б. Томашевский сводит поэзию Пушкина исключительно к совокупности формальных приемов. Творческое наследие великого поэта рассматривается им в отрыве от социально-политических условий русской действительности и в отрыве от мировоззрения писателя. Принижая идейное содержание творчества Пушкина, Томашевский полагает, что гениальность Пушкина определялась его способностью усваивать традиции… иностранной литературы. Великий поэт выступает в его статье не как родоначальник передовой русской классической литературы, а как своеобразный комбинатор разного рода формальных приемов, заимствованных им в западноевропейской литературе.
Б. Томашевский старается доказать, что Пушкин был всего-навсего смышленым учеником иностранных писателей. Так, например, структура пушкинской поэмы “Руслан и Людмила” была, оказывается, заимствована у Вольтера, Ариосто, Виланда. “Русалка” Пушкина звучит “вполне во вкусе западных баллад”, баллада “Жених” написана строфою немецкой “Леноры”, ”Гаврилиада” – в духе “художественных систем” Вольтера и Парни.
Одним словом, по мнению Б. Томашевского, вся поэзия Пушкина подражательна; творческое наследие великого поэта представлено заимствованной у иностранных писателей формальной системой, которая возникла и развивалась независимо от общественных идеалов Пушкина»[119].
Весенние проработки
Но все это было совершенно незначительным по сравнению с событиями конца марта – начала апреля 1948 г. В эти дни начались очные проработки ученых в Пушкинском Доме и университете. С 24 марта по 1 апреля было проведено четыре крупных собрания. Ольга Михайловна Фрейденберг пишет: «Полицейское заушенье, начавшись в вонючих охранных органах диффамаций, как “Культура и жизнь”, “Литературная газета”, перекинулось непосредственно в высшие учебные заведения и в научные институты»[120].
Проработочные кампании в учреждениях проводились тогда в два этапа: сперва собрание парторганизации и только затем общее собрание; такая последовательность была канонической (вспомним хотя бы приезд А. А. Жданова в Ленинград в августе 1946 г. – начиналось все с собрания партактива, и только затем последовало общее собрание писателей). Порой собрания из-за большой повестки дня или, что чаще, из-за большого числа выступающих в прениях продолжались по два дня.
Происходили эти действа – партийное и общее собрания – в разные дни, причем партсобрание чаще носило закрытый характер – там «обкатывались» доклады и выступления, проверялись ораторские способности тех, кто соглашался выступить, решались оргвопросы… Но, в силу большого значения, которое придавалось идеологическим мероприятиям, отчеты о партсобраниях нередко печатались в прессе, а участники их обычно щедро делились новостями с отсутствовавшими беспартийными коллегами.
Общее собрание (обычно оно называлось открытым или расширенным «заседанием Ученого совета») уже представляло собой хорошо срежиссированную постановку, где выступающие почти всегда были известны и проверены заранее.
Конечно, такие крупные идеологические акции не могли проходить без ведома вышестоящих партийных органов. Именно поэтому сперва вопрос решался на уровне не ниже райкома ВКП(б), где рассматривалась примерная повестка дня и утверждался текст основного доклада, а затем на заседании партбюро расписывались роли между выступающими. Именно тем обстоятельством, что доклад чаще всего утверждался заранее в райкоме или горкоме, объясняется тот факт, что даже при стенографировании собрания доклад чаще всего не стенографировался – текст его был известен заранее. Единственное, чем могли заниматься в момент чтения основного доклада стенографистки, – фиксировать аутентичность произносимого с трибуны с утвержденной машинописью.
Точно таким же образом – в два захода – прошли в Пушкинском Доме и на филологическом факультете университета масштабные проработочные заседания, приуроченные к окончанию «дискуссии» об А. Н. Веселовском. Особенное удобство для курирующих эти мероприятия партийцев состояло еще и в том, что парторганизации этих учреждений проходили по ведомству Василеостровского райкома ВКП(б).
Организатором этих мероприятий, не только в Институте литературы, университете, но и в ЛГПИ имени А. И. Герцена[121], был университетский литературовед А. Г. Дементьев – будущий литературный либерал, новомирец, друг и соратник А. Т. Твардовского. Но пока он был одним из ответственных за идеологию работников Ленинградского горкома ВКП(б).
Патриот А. Г. Дементьев
А. Г. Дементьев (1904–1985) был связан с филологическим факультетом с начала 30‐х гг. Приведем фрагмент его автобиографии 1937 г.:
«Я, Дементьев Александр Григорьевич, родился в 1904 году в селе Большое Мурашкино, Горьковской области. Отец – кустарь-овчинник, до революции эксплуатировавший наемных рабочих. С 1911 года по 1925 год я учился. Сначала в начальной школе и школе II ступени в селе Большое Мурашкино, а затем – на общественно-экономическом отделении Педагогического Института в г. Горьком. Окончив в 1925 году Педагогический Институт, работал преподавателем обществоведения и литературы, 3 года в г. Туапсе и 4 года в г. Ленинграде. В 1932 году поступил в аспирантуру Ленинградского Института Истории, Философии, Лингвистики по специальности: история новой русской литературы. В декабре 1935 года окончил аспирантуру, а в мае 1936 года защитил диссертацию на тему: “С. П. Шевырев как историк русской литературы”. В феврале 1937 г. постановлением квалификационной комиссии Наркомпроса мне была присуждена ученая степень кандидата наук. С сентября 1935 года и по настоящее время работаю и. о. доцента в Ленинградском Институте Истории, Философии, Литературы (ныне Филологический факультет ЛГУ). По совместительству работаю и. о. доцента в Педагогическом Институте им. Н. К. Крупской. С ноября 1935 года до июня 1937 года работал, кроме того, заместителем декана Литературного факультета ЛИФЛИ, но был освобожден за отсутствие контроля над программами. В Красной армии не был – признан негодным к военной службе. С 1932 года по 1935 год был кандидатом ВКП(б); при проверке партийных документов был исключен за скрытие от партии социального происхождения»[122].
Как свидетельствуют документы, в ЛИФЛИ он практически развалил работу литературного факультета, почему и был приказом от 20 мая 1937 г. освобожден от должности. Этому предшествовала докладная записка помощника директора ЛИФЛИ А. М. Моргена на имя 1-го секретаря обкома ВКП(б) А. А. Жданова от 19 апреля 1937 г., в которой кроме прочего говорилось:
«Нет слов, чтобы передать Вам то безобразное состояние, в котором находится Институт Философии, литературы и лингвистики (ЛИФЛИ) и то недопустимое отношение к нему со стороны руководителей Напркомпроса. ‹…› Факультеты работают слабо. Особенно плохо на литературном факультете, где нет вообще руководства, т. к. второй уже год там нет декана. Зам. декана этого факультета Дементьев А. Г., исключенный из рядов ВКП(б) за сокрытие соц[иального] происхождения, совершенно не руководит факультетом и должен быть немедленно заменен»[123].
23 марта 1939 г. А. Г. Дементьев был утвержден в ученом звании доцента и до 15 сентября 1941 г. работал на филологическом факультете ЛГУ. В декабре 1939 г. парторганизацией филологического факультета А. Г. Дементьев был принят кандидатом в члены ВКП(б), а в апреле 1941 г. стал вновь членом партии. По так называемой партийной мобилизации в сентябре 1941 г. ушел на Ленинградский фронт (в боях не участвовал). До ноября 1941 г. служил красноармейцем войск НКВД Ленинградского фронта, с 1 декабря 1941 г. по 1 июня 1943 г. – литературный сотрудник газеты «Удар по врагу» 42‐й армии Ленинградского фронта, с 1 июня 1943 г. по 1 апреля 1947 г. – лектор ленинградского Дома Красной армии имени С. М. Кирова.
Будучи с 1938 г. активным агитатором, постоянным лектором в воинских частях, на заводах и фабриках, с началом войны он поступил в распоряжение политуправления Ленинградского фронта, где был использован на ведущих ролях в деле подготовки агитаторов.
22 декабря 1942 г., в еще блокированном Ленинграде, была подписана к печати его книга «Реакционная роль немцев в истории России». Лубочная, крайне политизированная трактовка историко-литературного материала в этой работе характеризует как эпоху, так и присущий автору пафос:
«Немецкая клика внутри России была оплотом крепостничества и монархии и проводила политику экономической и политической реакции. Она старалась задержать развитие России и ослабить русскую армию и военную мощь. Высокомерные немцы-бюрократы презирали и ненавидели русский народ, мучили и угнетали его и раболепно служили царям. Они насаждали в стране прусские полицейские порядки и жестоко расправлялись с революционным движением. Пробравшись на самые доходные места в государстве, немцы нагло брали взятки и беззастенчиво расхищали государственную казну.
Проживая в России, принимая русское подданство, большая часть “русских немцев” не переставала сохранять свои нравы, язык, веру. Они были крепко связаны с прусскими, австрийскими, голштинскими, гессенскими родственниками и по мере сил и возможности отстаивали их интересы в России»[124] и т. д.
В 1944 г. ставший майором А. Г. Дементьев переработал стенограммы своих выступлений на сборах агитаторов при политуправлении Ленинградского фронта и отдал в печать книгу «Великие идеи патриотизма в творчестве русских классиков» (Л., 1944), в которой «автором приведен обильный фактический материал, иллюстрирующий великие идеи патриотизма в творчестве русских писателей. Назначение книги – оказать помощь агитаторам и пропагандистам в их работе по политическому воспитанию бойцов и офицеров Красной Армии»[125].
Работая во фронтовой газете «Удар по врагу», с января 1942 г. по апрель 1943 г. политрук Дементьев поместил там ряд агитационных материалов аналогичного содержания[126]. Кроме публикаций по «истории литературы» представляет интерес его статья воспитательного характера, где он формулирует основополагающий метод своей работы в 40‐х гг.: «Народный комиссар обороны товарищ Сталин учит нас сочетать метод принуждения с методом убеждения»[127].
По ходатайству ректора А. А. Вознесенского (согласно решения парткома ЛГУ от 2 октября 1946 г.[128]) А. Г. Дементьев был демобилизован из РККА (уволен в запас в звании майора) и с 16 марта 1947 г. зачислен в штат ЛГУ. В том же году он занял место заместителя директора Филологического НИИ Ленинградского университета. Вместе с работой в университете 15 апреля 1947 г. он был зачислен на должность инструктора сектора печати Ленинградского горкома ВКП(б), а в марте 1948 г. сменил своего непосредственного начальника В. П. Друзина на посту заведующего этим сектором[129]. С 15 марта 1948 г. приказом ректора он был освобожден от должности заместителя директора Филологического НИИ и переведен полставки старшего научного сотрудника – работа на переднем крае идеологического фронта требовала от него мобилизации всех сил. 22 марта А. Г. Дементьев был выведен из состава партбюро филологического факультета ЛГУ в связи с переходом в парторганизацию горкома ВКП(б).
Ольга Михайловна Фрейденберг писала в те дни:
«…Вот времена изменились, и появился еще один начальник, кроме пяти прежних. Это был Дементьев. Умный, хитрый, с виду добродушный, Дементьев, наш “старый” факультетский русист, был членом партии, затем исключен за сокрытие своего происхождения из кулаков, ныне партийный диктатор Ленинграда по части идеологии. Партия время от времени выбрасывала в свет таких “установщиков”, калифов на час, терроризировавших своей наглой полит-цензорской разухабистостью. Это были молодые или бывшие молодые, невежды-всезнайки, начетчики святого политписания, агитаторы и проходимцы. Важные, разбухшие от величия, они вылетали и летели, пропадая Бог весть куда. Сейчас они уже имели ученые степени и звания. За последние годы Сталин создавал своих академиков, профессоров и доцентов, подобно иерархам церкви. Как бы они не назывались, все они были агентами тайной полиции, осведомителями и перелицованными политагентами. Их главная функция заключалась в послушании. Они продали душу дьяволу, и возврата для них не существовало. ‹…›
В горкоме партии его дожидались в приемной, но меня он хорошо знал ‹…›. К его чести нужно сказать, что он не мстил мне и зла абсолютно не помнил. Это был дородный русский мужик, по-деревенски сильно окающий, продувная бестия, с умом, дарованьем, кандидатской степенью и знанием нашего брата. Вознесенный на страшную (именно страшную!) высоту, он сидел на пике скалы и оглядываться уже не мог; совесть была запродана; важным он не стал и чувство юмора не потерял, но напряжение, какого требовала его головокружительная работа, держало его в состоянии недремлющего внимания и натянутости всех сил рассудка»[130].
В поисках нового ректора ленинградского университета
Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 24 января 1948 г. профессор Александр Алексеевич Вознесенский получил от руководства страны пост министра просвещения РСФСР и вынужден был оставить кресло ректора Ленинградского университета. Первым из печатных изданий о новой должности А. А. Вознесенского сообщил 26 января «Вечерний Ленинград»[131].
Из Ленинградского университета А. А. Вознесенский уходил болезненно и с большим сожалением. Поскольку уезжал он стремительно и даже не успел «по-настоящему» проститься с университетом, то с целью устроить себе чествование он организовал в начале марта поездку в Ленинград. 4 марта 1948 г. новостная лента ТАСС сообщала:
«В Ленинград приехал Министр просвещения РСФСР А. А. Вознесенский. Он пробудет в Ленинграде несколько дней и ознакомится с работой органов народного образования. 6 марта состоится его встреча с учительским активом города и директорами школ»[132].
5 марта 1948 г. бывшего ректора чествовали на открытом заседании Ученого совета университета, где бывшие подчиненные отблагодарили Вознесенского избранием в почетные члены Ученого совета[133]. Внешне это было представлено не столько как прощание, сколько как юбилейное заседание:
«В Ленинградском университете состоялось заседание ученого совета, посвященное 50‐летию со дня рождения и 25‐летию общественной и научно-педагогической работы профессора А. А. Вознесенского, Министра просвещения РСФСР.
Заседание открыл исполняющий обязанности ректора проф[ессор] С. В. Калесник. Затем выступили академик В. И. Смирнов, члены-корреспонденты Академии наук СССР профессора И. И. Жуков, М. П. Алексеев, проф[ессор] В. В. Рейхардт, представители студенчества»[134].
О. М. Фрейденберг записала:
«Вознесенского уже больше не было. Его сделали министром просвещения. Долго и упорно он сопротивлялся. ‹…› Подхалимы собрали 23 тысячи рублей и купили ему золотые часы и вазу в человеческий рост. Прощаясь, он едва не плакал. “Вырвали из моего мяса кусок!” – говорил он нашему главбуху[135]. О, до чего ему не хотелось покидать своей сатрапии, где он был царь и владыка. Он по-своему был очень привязан к университету и лез из кожи вон, чтоб создать ему показное величье. Это был “хозяин”, самодержец, самодур»[136].
Постепенно А. А. Вознесенский оставил свои прочие ответственные посты в городе Ленина – он не был переизбран в состав членов Ленинградского горкома ВКП(б), а 22 мая состоялось заседание правления Ленинградского отделения Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, где «в связи с назначением профессора А. А. Вознесенского Министром просвещения РСФСР, председателем правления Ленинградского отделения Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний избран Герой Социалистического Труда академик И. И. Мещанинов»[137].
Поскольку новое назначение А. А. Вознесенского готовилось отнюдь не в Министерстве высшего образования СССР, а в Секретариате ЦК ВКП(б), то к моменту его перевода в Москву остался нерешенным важный вопрос – кто же займет теперь пост ректора Ленинградского университета?
Вопрос этот оказался настолько сложным, что для его решения потребовалось целых полгода. Несомненно, серьезную роль в назначении нового ректора играл, прежде всего, сам А. А. Вознесенский, который не только следил за процессом в Москве, но и сам бывал в Ленинграде, а также принимал приезжавших в Москву университетских профессоров.
Вероятно, первоначально планировалось утвердить в этой должности оставшегося местоблюстителем проректора ЛГУ по научной работе, профессора кафедры географии полярных стран географического факультета С. В. Калесника. Для предметного разговора он был вызван в феврале в МВО СССР. 16 февраля 1948 г. он выехал в Москву, возложив исполнение обязанностей ректора на проректора по учебно-воспитательной работе Ю. И. Полянского[138]. Но двухнедельное пребывание в Москве не привело к утверждению С. В. Калесника на посту ректора, даже напротив – дело еще более затянулось, а в мае 1948 г. исполнение обязанностей ректора было поручено уже Ю. И. Полянскому – профессору кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета.
Кроме этих двух «и. о.» рассматривались, даже просматривались, другие профессора. По-видимому, именно с этой целью с 12 по 20 апреля 1948 г. в Москве находился декан химического факультета Н. А. Домнин[139], вызванный телеграммой от имени заместителя министра высшего образования А. М. Самарина. Но увидев профессора кафедры строения органических соединений Никиту Андреевича Домнина, в Министерстве засомневалось: сможет ли он удержать столь тяжкий груз в этот политически неоднозначный момент? С 1 по 5 июня в Москве по вызову начальника Главного управления университетов МВО СССР профессора К. Ф. Жигача в министерство «на просмотр» прибыли уже трое: первый – уже знакомый de visu декан химического факультета Н. А. Домнин, и еще две кандидатуры – декан восточного факультета, доктор экономических наук, профессор В. М. Штейн, а также проректор ЛГУ по учебной работе (в те же годы он был деканом геологического факультета), профессор кафедры общей геологии ЛГУ Л. Б. Рухин.
Результатом смотрин стал приказ Министерства высшего образования СССР от 29 июня 1948 г. о назначении профессора Н. А. Домнина исполняющим обязанности ректора ЛГУ[140]. Одновременное освобождение его от должности декана химического факультета говорило о том, что вскоре он будет утвержден министерством в качестве ректора. Так и случилось: 12 июля 1948 г. заместитель министра А. М. Самарин подписал приказ «Утвердить доктора химических наук профессора Домнина Никиту Андреевича ректором Ленинградского Государственного ордена Ленина университета»[141]. В тот же день утвержденный ректор выехал в Москву для получения указаний. 19 июля Домнин был утвержден министерством в должности заведующего кафедрой строения органических соединений, проработав в этом качестве намного дольше своего ректорства – до 1965 г.
Новый ректор был антиподом Вознесенского. О. М. Фрейденберг записала после личной встречи с ним:
«Домнин оказался обаятельным по скромности, простоте и человечности человеком. Я не верила этому чуду, не постигала. ‹…› Домнин походил по стилю своей натуры на царя Федора Иоанновича. Это казалось уместным после Вознесенского, Иоанна»[142].






