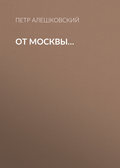Петр Алешковский
Владимир Чигринцев
Пролог
1
22 марта 1774 года генерал Голицын взял Татищеву. Пугачев бежал к Сеитовской слободе, сжег, посек, разорил на лету и через Сакмарский городок проследовал к Берде, тщась с наскоку овладеть осажденным Оренбургом.
Славные драгуны полковника Георгия Ивановича Хорвата преследовали самозванца по пятам от самой Татищевой. Пугачева спасли ходкие калмыцкие кони, глубокий снег и местные проводники.
Вооружена его сволочь была кое-как – кто копьем, кто дротиком и стрелами, кто пистолем и офицерской шпагой, – топоры на длинной рукояти, штыки, наткнутые на длинные палки, а и просто дубины почитались у них серьезным оружием.
В Бердской слободе захватили архив самодержца во «дворце» – доме казака Ситникова.
Попалась и сама «императрица» – Устинья Петровна. Изучающий похотливый взгляд генерала Голицына, хамское гиканье солдатни предвещали ей близкие муки. Красивая, богато одетая в привозные шелка и парчу, с потухшим взором, страшилась она и дальнего справедливогосуда за грехи разбойного муженька, закабалившего ее против девичьей воли.
Тот вскоре был крепко бит на Каргальской дороге, потерял пушки, войско и бежал к Пречистенской, а далее на уральские заводы с четырьмя случайными душегубцами. Бросил всех и вся на произвол судьбы, в том числе подлых своих атаманов Шигаева, Почиталина, Падурова и других, взятых спешно в строгие сковы, к великой радости победителей.
Оренбург был освобожден. Жители, вчера еще молившиеся на кусочек мороженой конины, но радующиеся и мучной болтушке, сегодня, не веря чудесному избавленью, с плачем и криками расхватывали ввозимый в город дармовой хлеб и солонину. Колокольный звон на морозном воздухе катился далеко по притихшей степи.
2
Днем позже снятия Оренбургской осады хорватовский поручик князь Сергей Дербетев с отрядом конников возвращался к Берде, гоня впереди пеший полон. Разбросанные по степям волчьи стаи изменников драпали в разные стороны – их ловили сотнями и свозили на расправу в крепость. Дело близилось к вечеру.
Вдруг впереди на взгорок выскочили верховые. Молодой Дербетев привстал на стременах, считая головы.
– Девять их, и кони устали, позволите взять? – предвкушая легкую поживу, взмолился казачок из переметнувшихся.
Поручик радостно кивнул. «Четверо за мною, вперед!» – скомандовал нервным фальцетом, бросая коня в галоп.
Сперва гнали по дороге – пугачевцы решились удирать. В озлоблении, наехав на троих отставших, порубили сплеча. Двое других попались через четверть часа – были опрокинуты передовыми и добиты выслуживающимися перебежчиками. Четверо оставшихся бросились врассыпную по целине.
– Я сам, сам, берите прочих! – крикнул в запале Дербетев, наметив в степи далее всех ушедшего казака. Лошадь того была статная, атаманская, не запаленная, – князь не сомневался в исходе погони.
Не рассчитал он одного: чуя погибель, холоп гнал коня всмертную, колол круп дротиком, вознамерился уйти во что бы то ни стало. С полчаса продирались сквозь дикий снег, порой лошади вязли по брюхо. Холод степи не ощущался – распаренные люди и животные берегли дыханье из последних сил.
Преследуемый целил на бугор к одинокому дереву, и коли поспел бы туда раньше, мог занять удобную диспозицию, но лошадь на подъеме сдала. Тогда он закричал по-татарски визгливо и страшно и принялся колоть исступленно, глубоко раня животное. По крупу несчастной заструилась кровь, лошадь странно закашляла, задавилась удилами, просела на задние ноги и наконец, задрожав всем телом, свалилась на бок. Казак проворно откатился по снегу, перехватил дротик, пустил его в нависающего офицера. Острие впилось глубоко в ногу, князь завопил от резкой боли и, не сознавая себя, в отместку начал крошить упавшего на колени, прикрывающегося рукавами мужика.
– Пощады, пощады, Христа ради! – донеслось из середины свалявшейся волчьей шубы. – Пощады! Озолочу, все отдам за жизню, пощады, ваше благородие!
Но весь ход погони, все зло, вся острая боль от раны, весь брезгливый страх к катающемуся по снегу, воющему теперь подлецу, как и в конце загонной охоты, требовали крови. Князь рубил с седла, а после сорвался с коня, рывком доскочил до посеченного, двумя руками, как колом, замахнулся клинком и пригвоздил раненого к земле.
Тот дернулся раз и отвалился на спину. Лицо, залитое кровью, порванное в клочья, было страшно: язык путался в распухшем рту, блеснул в черном провале зуб, умирающий выдохнул через силу: «Не пощадил… в поле погиб… волкудлаком к тебе приду!» Затрясся, захрипел уже нечеловеческими звуками, завертелся волчком на кровяном снегу и затих у ног потрясенного Дербетева.
3
Поручик стоял над трупом, не решаясь обыскать. Колено болело, нога почти отнялась. Рана как бы оправдывала убийство. Он проковылял к дереву, обломил нижние ветви, запалил костер. Взмыленный конь стоял по ветру в стороне, ноги его ходили ходуном. Сесть сейчас в седло означало бесславно сгинуть обоим в степи недалеко от спасенного Оренбурга.
Первым делом Дербетев перетянул ляжку, остановил кровь, наложил повязку на рану. После, сломив сук на костыль, добрался до окоченевшего трупа, сорвал шубу, стараясь не глядеть в страшную рожу, обыскал разбойника, непрестанно творя молитву. На шее татя на грязном свином шнурке сыскался ключ. Он толкнул труп, и тот медленно сполз по снегу и исчез в темноте оврага.
В переметной суме нашлась фляга с водкой, кусок солонины, сухарь, какой-то свиток бумаги и завернутый в кошму ларчик искусной басурманской резьбы с медными оковками и восседающим на литой ручке гордым кречетом.
Ларчик был мал, да тяжел. Кое-как доперев его до огня, рвя зубами от куска солонину и запивая водкой, Дербетев прочитал послание.
«Всеавгустейшей, дер великой государыне, императрице Устинье Петровне, любезнейшей супруге моей, радоватися желаю на нещетны лети!
О здешнем состоянии ни о чем другом к сведению вашему донесть не нахожу: по сие течения со всею армею все благополучно. Напротиву того, я от вас всегда известнаго получения ежедневно слышить и видить писанием желаю. При сем послано от двора моего с подателем сего казаком Кузьмою Фофановым сундуков за замками и за собственными моими печатьми, который по получению вам, что в них есмь, не отмыкивать и поставить к себе в залы до моего императорского величества прибытия.
А особливо прошу беречь ларчик медяной бусурманский с кречетом за печатьми моими запечатаной и за ним глядеть и вблизи держать и не отмыкивать.
А фурман один, которой с ним же, Фофановым, посылается вам, повелеваю, розпечатав, и что в нем по описи состоит, принять на свое смотрение. О чем, по получению сего, имеете принять и в крайнем смотрении содержать. А сверх сего, что послано съестных припасов, тому при сем предлагается точной регистр.
В протчем, донеся вам, любезная моя императрица, и остаюся я великий государь».
Снизу приложена была круглая большая печать. Фофанов ли Кузьма лежал сейчас погубленный в овраге или кто другой, вряд ли теперь можно было разгадать. Мародерничали мужички или скрывали самое драгоценное, ясно становилось одно – ларчик с кречетом был из письма самозванца.
Горя нетерпением, забыв на минуту про боль, Дербетев вставил ключ и отворил крышку. Ларчик был полон самоцветов, и таких, что в жизни своей он не видал. Потрясенный, глядел Дербетев на камни, хладно горящие в отблесках костра. Потомок татарских мурз, владелец заложенного костромского именьица был теперь богат на всю оставшуюся жизнь. Да что сам – на роды родов должно было хватить содержимого. Он спешно затворил сундучок, закатал в кошму, утолкал в суму, но встать не хватило сил – тело ему не повиновалось.
Нога раздулась и онемела. Конь не пошел на свист хозяина, затравленно косил глазом, сек хвостом и вскорости, тяжело, по-женски вздохнув, потрусил в поле и растворился в надвигающихся сумерках.
Морозная ночь покрыла степь. Тучи неслись по небосводу, предвещая верную метель. Полная луна сияла начищенным рублем из рваных прогалов. Вокруг нее в небесах разливался больной красно-коричневый отсвет. Дров на ночь недоставало. Залезть на дерево, наломать ветвей он не мог. Лег на окровавленную волчью шубу, подложил под голову суму с сундучком, уставился на костер. Кровь приливала к голове, заволакивая глаза туманом, лицо запылало, как уголья в печи. Начинался жар.
Через час, бредящего и бессильного, его подобрали драгуны Хорвата, уже было отчаявшиеся разыскать своего лихого командира. Свет костра привлек их внимание, даровал Дербетеву жизнь.
4
Оставленный в оренбургском лазарете, два месяца боролся он с костлявой. Метался в бреду на топчане, вопил истошно и жалостно, призывая Ангела-хранителя защитить от упыря, сосущего по ночам его кровь, и наконец, Божьим промыслом, немного оклемался и вошел в разум.
Болезнь превратила князя в настоящий скелет с воспаленными, ввалившимися, полубезумными глазами. Нога гнила и никак не заживала. Комендантская комиссия признала поручика безнадежно больным и отправила помирать в родовое, списав из драгунского полка, как значилось в документе, по причине неослабной лихорадки, ломы в костях, фистулы и горячки.
Двадцатичетырехлетний полумертвец добрался до Костромы на перекладных к концу благодатного лета. Год еще он отходил, отпивался травами, жарился баней, зашептывался знахарями и, частично восстановив здоровье, остался хром и нелюдим на всю жизнь, заслужив у окрестных помещиков кличку «шалый князь».
Жил он на отшибе, прикупил в лесу земель вокруг своей деревушки Пылаихи, возвел там каменный дом и крепкую церковь с трапезной и колокольней. В крестьянские дела не вникал, позволяя приказчику нещадно себя обворовывать. Общался больше с темными мужиками – то ли охотниками, то ли колдунами.
«Шалого князя» боялись как огня – встретить его, бродящего с волкодавом и охотничьим ружьем в лесу, считалось дурной приметой.
К сорока годам он неожиданно женился на бедной дворянской сироте Чигринцевой и, поговаривали, муштровал ее, как кавалерийского новобранца. Дворовые хозяйку жалели.
Через год родился первенец Павлуша. Но сын не изменил привычек «шалого князя», более, тот стал совсем нелюдим, на свою половину никого не допускал, спал ночью при свече, по-прежнему бродил по лесам, охотясь в основном на волков. Шкуры их неизменно раздавал крестьянам, чем хоть и был хорош.
Однажды, по мартовскому снегу уйдя на лыжах в лес, князь запропал. К ночи завела унылая метель, переросшая в злую бурю, – трое суток нельзя было высунуть наружу носа. На вторые сутки собака приплелась домой одна, скулящая, голодная и прибитая, что с матерым волкодавом никогда прежде не случалось.
Когда бросились искать, нашли его висящим на сосне недалеко от дома в Падушевском овраге. Место прокляли, хозяина схоронили в склепе в церковной ограде, приписав смерть лихим людям. Любимая его собака вскоре исчезла.
Зато в округе стали замечать по ночам белогорлого худющего кобеля, коего местный колдун определил как оборотня. Пытались стрелять его серебряной пулей, но не достали.
В Падушевском овраге на полную луну слышали мерзкий волчий вой, и вконец напуганная молодая мать Дербетева заказала особую читку. Молитвы сделали дело – вой прекратился, а белогорлая собака как сквозь землю провалилась.
Часть первая
1
Традиционную утку с антоновкой и Татьяниного сбора бобрянской брусникой смолотили в один присест. «Многие лета», стройно пропетые профессору Павлу Сергеевичу в начале торжества, и теперь еще порой шутейно вспыхивали в разных концах стола, но, не подхватываемые всеми, так же и затихали, – гости пресытились и занялись фруктами. Смаковали заморские ликеры, настоящие, купленные, как и все изобилие, Ольгой Павловной на валюту в хорошем магазине. Сам Профессор куда-то отлучился.
Главной темой застолья был домовой, разбивший любимую Ольгину супницу, и как бесплатное приложение к нему – римлянин Кашпировский, зарядитель воды Чумак, воскреситель трупов Лонго и мелкие феи и «православные» целители от Вельзевула. Ларри Коре, американский славист и Ольгин муж, возбужденный и счастливый, с детства знающий цену телевизионным кудесникам, наслаждаясь последними российскими деньками, изливался в любви Аристову и Волюшке Чигринцеву под неизменную «Столичную». Клялся прислать по факсу – и немедленно – статью о казаках в собираемый загодя юбилейный профессорский сборник.
В десятых числах необычно жаркого сентября на террасе большой подмосковной «академической» дачи заканчивалось чествование семидесятивосьмилетия Павла Сергеевича, заканчивалось чинно, традиционно хлебосольно, как все, что делалось в доме Дербетевых.
В конце шестидесятых (кто теперь вспомнит) ученый, писавший дотоле в основном о социально-экономической истории России, резко сменил стиль. На строгом худом лице проступило происхождение, на мизинце поселился родовой сердолик-печатка в рыже-золотом ободке. Павел Сергеевич занялся персоналиями осьмнадцатого столетия.
Документ ожил. Направляемый умелой рукой ученого стилиста, вынырнул и задышал портрет. Личность сближала века, намекала подтекстом на то, что едва различимым зародышем пряталось в сухой идеологизированной экономике прошлых академических штудий. Его книги имели успех как здесь, так и за океаном. Возникла небольшая полуопальная школа, создавшая перво-наперво особый элитарный язык: старомодно галантный, полный неподдельного веселого юмора и скрытых цитаций, коими блеснуть почиталось за честь, – язык сообщества позволял с ходу вычислить и отделить своего от чужого, «непосвященного». «Птенцы гнезда Дербетева», упиваясь игрой, прощали шефу все ради истинных знаний, даже патриархальное самодурство и желчность, столь отличные от холопского сибаритства потомственных паркетных холуев.
Демократичные американцы ценили архивные знания, точное слово и начитанность Профессора не менее его отмененного историей титула, звали наперебой читать лекции, но Павел Сергеевич ссылался на лень и не изменил Отчизне ни разу. Зато когда дочь его Ольга в восемьдесят третьем вышла за стажировавшегося у Профессора Ларри Корса (он же Ларион Корсунский – из первой волны), когда ректорат затерзал Павла Сергеевича вызовами и разбирательствами, он проявил жесткость, не поддался, не уступил ни пяди. Победно-презрительно язвил, в перестройку вышел из партии, отослав билет по почте, и доживал теперь с младшей Татьяной, полностью им закабаленной после смерти жены, много работал за столом, оставив в университете узкий спецкурс, выросший из потайного «кухонного» кружка шестидесятых. Чуя время, он спешил: Екатерина Вторая – Просветительница одна занимала его внимание всерьез.
Профессор вышел на террасу, как только он и умел, вроде незаметно, несуетно, но значительно ступая, исподлобья обозрел присутствующих. В руках держал перевязанную лентой коробочку темно-зеленого фетра. Сразу пала тишина. Когда напряжение достигло высшей точки, опустился в кресло и, не глядя ни на кого отдельно, начал по существу, уверенный, что каждое слово услышат и запомнят.
– Мне скоро помирать, господа, факт. Значит, нет больше смысла хранить семейную тайну. Люди здесь не чужие, сына мне Бог не дал, но даровал девчонок, коими я порой весьма бывал доволен.
Вы знаете, что родовое наше – Пылаиха – с шестидесятых не существует как деревня. Знаете, что есть у меня домик в Бобрах, в пятнадцати километрах. Поселились мы там так.
В тридцать пятом после перековки на заводе «Серп и молот» я поступил в ИФЛИ. Жениться случилось поздно, уже после войны. Вера Анисимовна и уговорила меня съездить в Пылаиху, которую смутно помнил по детским воспоминаниям и знал более по преданию о кладе, зарытом в родовом одним из Дербетевых после Пугачевской войны. Причем легенда говорила, что страшный вурдалак сгубил в конце концов бравого драгуна, завладевшего сокровищами. Не веря особо ни в Бога, ни в черта, мы отправились в путь. Не ради денег, конечно; мы их тогда, и всегда, впрочем, презирали – готический роман и сказки теток волновали куда сильней.
Шли полем. Попутный мужичок объяснил, что до Пылаихи километров пятнадцать кругалем и пять через поле, но в баньке поселилась ведьма и в десять вечера летает над лесом на помеле. Осмеянный, он обиженно хмыкнул и пошел стороной. Нарочито и весело отправились мы напрямки.
Близилось к десяти. Пылаихинская церковь виднелась на бугре за деревьями, на луг опускался туман. Какая-то банька с трубой, просевшая и явно бесхозная, прилепилась у ручейка на нашем пути. Я засек время. Ровно в десять в полном безветрии в тишине сумерек из трубы отвесно в небо взлетел, воспарил – не подберу слово и сегодня – огненный шар. Потрясенные, мы пали в траву. Повисев с минуту, шар стал кататься по воздуху кругами, набирая скорость. От него исходило прерывистое гудение, отдаленно похожее на всхлипы ветра или скулеж зверя. Круг в воздухе замкнулся. Потом я вычислил время – семь минут, тогда нам показалось – вечность. Огненный шар летал и летал, затем завис опять над банькой и со щелчком всосался в трубу.
Наступила мертвая тишина. Вера молила возвращаться – я настоял идти. Было страшно. Но ничего больше не случилось. Банька в темноте чернела пятном, появился ветерок, затем закапал дождик. Ночевали в Пылаихе у бабки. Расспрашивали о шаре и получили выговор за свое безрассудство: падушевская банька считалась здесь проклятым местом. Охота смеяться у нас совсем отпала.
Тем не менее места нам понравились. За бесценок выглядели дом в Бобрах – девчонки больше там и воспитывались. Татьяна, как вы знаете, и теперь туда наезжает: грибочки и брусника на столе – ее рук дело. Я, понятно, не был там давно, впрочем, и не жалею… Так вот, в Пылаиху и в те годы ходили мы редко, в основном за опятами, да и то пока там жили люди, мрачное, признаюсь, стало место. Крестьяне, перемещенные в начале тридцатых, фамилию мою не знали или не сопоставляли с помещицкой – таиться хоть здесь не приходилось. С тех пор при случае я всегда расспрашивал естественников – шаровой молнией сие быть никак не могло. Не скажу, что струсил, нет, тут иное: я вдруг понял, что клад мне в руки не дастся. Свидетельство сему – остатки, передаваемые по наследству.
Профессор аккуратно размотал ленту, раскрыл коробочку. Гости подались вперед и разом ахнули.
– Оля, Таня, подойдите, – произнес Профессор торжественно. – Колье и перстень – Тане, брошка – Ольге, – объявил он. – Ты, – добавил старшей, – все равно увезешь, пусть большее останется тут, на Родине. Вот так, господа, клад искать теперь девочкам, их мужьям, Волюшке, он хоть из Чигринцевых, но родня. Вам цвесть – нам тлесть, – пошутил Павел Сергеевич мрачно.
Драгоценности пошли по рукам, поднялся гам. Профессор возвышался над столом, наслаждаясь произведенным эффектом.
– Тут в перстне инталия – вырезной сапфир, погодите, погодите, – вглядываясь в камень, закричал приглашенный Аристовым Княжнин, – буквы…
– Не буквы, а иероглифы, молодой человек, – оборвал язвительно Павел Сергеевич. – Впрочем, и буквы имеются – арабская вязь, но их можно разглядеть только в лупу. По чести, я боялся носить по спецам – время не благоприятствовало, за такие камешки большевики могли б и срок намотать. Теперь бизнес шагает, так, господин Княжнин?
Но его ироническое подчеркивание фамилии, как и последующий уход остались незамеченными – музейные, огроменные камни примагнитили всех до одного.
2
Более, наверное, всех принял случившееся к сердцу Воля Чигринцев. Поразили его даже не камни, а адресованные ему слова Павла Сергеевича. Отныне он официально признавался членом большой семьи Дербетевых, с которой состоял в прямом, но далеком родстве по матери. Вряд ли ответственное решение принималось Профессором накануне или сегодня поутру. Хотя князь, или «красный мурза», как заглазно величала его тетушка Чигринцева, был непроницаем, – что варилось в его голове, оставалось всегда тайной за семью печатями.
Волюшка, как и все окружающие, с детства страдал от грубой резкости Павла Сергеевича, тот часто высмеивал мальчика, держал на дистанции, именно как юнца, не допускаемого в священный круг взрослых. Тепло, забота, внимание – проявление подобных чувств было для князя равносильно потере собственного достоинства. Иное дело – показное хорошее настроение, сытный покой после доброго обеда и рюмашки. Князь подсаживался к «своему» столику, доставал из футлярчика карельской березы специальные маленькие карты, принимался за гранд-пасьянс. Тут он позволял себе краем уха прислушаться к пустословию общего стола, подпустить незлобную шпильку, реплику, порой остроумную, порой даже добродушную. Традиционный послеобеденный воскресный «отдыханчик» (дербетевское словечко) бывал самым спокойным временем в семье.
Остальные часы, минуты, расписанные с немецкой пунктуальностью и английским снобизмом, подчинены были ученому – вокруг него все вертелось. Пожалуй, одна Ольга – наследница отцовской крови – умела пойти напролом против папиной воли или, по-профессорски презрев, не расслышать до нее касаемое. Танюша дулась про себя, но смиренно подчинялась, плакала от незаслуженной обиды в тиши, одна, незаметно – и часто получала после отповедь отца: «Опять рева-корова». Дразнилка вгоняла в краску по новой, Таня прятала глаза или уносилась вихрем к себе, не показываясь порой до следующего утра.
Воля, приводимый с детства на обеды родителями, сборища Дербетевых терпеть не мог Знал: обязательно ткнут пальцем и унизят. Долгое время казалось, что «красный мурза» избирал его объектом насмешек специально. Поcле гибели родителей Воля часто пропускал воскресенья, но князь, не замечая пассивного протеста, неизменно встречал особой вежливой насмешкой: «А-а-а, Вольдемар пожаловали, иже зовомый Волюшка-вольница, милости прошу». Тут был явный намек на его свободную профессию, не одобряемую дисциплинированным академическим умом.
Воля, пристроенный в жизни мудрыми родственниками, оформлял детские книжки. Дело это было ранее весьма хлебное, он и в ус не дул – рисовал все, что дадут, за длинным рублем не гнался, себя не насиловал, стараясь получить заказ, по возможности связанный с историей, стройки и пионерию никогда не воспевал. История тешила его дилетантское самолюбие – не достигнув больших высот, он тем не мене профессионально просиживал в музеях и библиотеках, знал историю костюма, мебели и, положив за правило по вольнолюбию характера не быть коллекционером, восхищался красотой и добротностью вещи, как, верно, раньше конюхи, понимая сызмальства толк в лошадях, позволяли себе бескорыстно любоваться статными хозяйскими красавцами. Подобная жизнь его устраивала.
Прекрасный пол, весьма долго его занимавший – он был знатный донжуан, – теперь, к тридцати трем годам, несколько прискучил однообразием сюжета. Друзья давно все оженились, завели семьи, Воля же держался, сам, впрочем, не понимая почему, в угрюмого сыча не превратился – жизнь в нем пульсировала полно, но все же последние годы он несколько остепенился, реже и реже срывался в полеты, раз навсегда решив довериться Провидению, в кое верил без ханжества, но крепко и радостно.
И все же чем дальше, тем больше тянуло к Дербетевым. Князь безусловно фиглярничал, как себялюбец со стажем, но что-то недосказанное, невыраженное крепко пристегивало к нему, помимо знаний, дивных рассказов за столом, всегда фабульных, всегда глубоких. Павел Сергеевич, чего у него не отнять, был редкий профессионал. Иронизировать над собой позволял только себе самому, делал это тонко и к месту, порой снимая им же созданное напряжение. Смешил общество преувеличенным покаянием или дежурной фразой: «Дербетевы, знаете, все недополучившие чина поручики», – но замечал сие без тени улыбки, пожимал плечами, подчеркивал просто сам факт и… через пять минут снова вычитывал дочкам или жене за безделицу.
Сегодняшнее «прощальное слово» обставил по законам риторики, с пафосом уставшего аристократа, и все б показалось привычной игрой, кабы не драгоценности и клад, завещанный теперь и ему, Владимиру Чигринцеву.
Волюшка скрылся в саду, устроился в шезлонге за кустом жасмина. Легкое опьянение, в начале застолья забравшее, исчезло совершенно. Легенду он слышал с детства, как все в семье в нее не верил, ан, оказалось, зря. Княжнин, бизнесмен из новых российских эмигрантов, а также по совместительству поэт-любитель, чем-то пленивший в последний месяц Аристова, говорил о необходимости оценки, срочной страховки, – вместе с Ларри они взялись разработать план вывоза Ольгиной броши через знакомого дипломата в посольстве.
Воля удрал на воздух наслаждаться одиночеством и тишиной. Княжнин (Чигринцев знал, что это литературный псевдоним, ставший американской фамилией) его раздражал. Казалось, он не заметил иронии Профессора, но скорее-то всего, заметив ее, прикрылся деловым разговором, как щитом.
Выходило, Профессор ценил Чигринцева издавна, или делал уступку родству?
– Надо собираться за кладом, – проговорил он вслух и, разом приняв решение и, как всегда, загоревшись, уже спешил действовать, то есть мечтал за кустом, сладко потягиваясь, хрустел пальцами здоровенных и сильных своих рук, приятно сцепленных на затылке. Крупный мясистый нос и далеко открытый лоб без единой философической морщины выделяли и отягощали лицо, намекали на спящую, укрощенную агрессию, за что мать ласково обзывала его «мой Мишук», но никак не медведь, – большие черные и теплые глаза с детства слегка удивленно взирали на мир, но лишь невнимательный человек мог заподозрить в Чигринцеве легкомысленного простачка. На деле простодушие и открытость были лишь маской, а невинная улыбка зачастую ставила даже строгих и волевых в тупик, ибо за крепкими скулами читался терпеливый и выносливый характер. Где-то заголосил петух, мерно капала вода из крана на участке, жарило, не доставая, солнце – в тени за кустом клонило в сладкую дрему.
– Всего хорошего, вечером созваниваемся, как сговорились. Надеюсь, я его застану. – Княжнин прощался с Ольгой, Аристовым и Ларри на крылечке дачи.
– Не очень-то утруждайтесь, Сергей, не сейчас, так в другой раз заберем, – проявляя вежливость, отговаривала Ольга.
– Не стоит разговора – надо действовать, и немедленно, он мне приятель по покеру, да и история романтическая – тут американец сделает больше возможного. О’кей, я исчезаю, всем общий поклон, а перед Павлом Сергеевичем извинитесь особо. Рад был познакомиться, ба-ай, – растягивая гласную, пропел Княжнин напоследок.
Ольга с Ларри скрылись в доме, Аристов завопил с крыльца:
– Волька, ты где, идем допивать!
– Я тут, – лениво отозвался Чигринцев.
– Изволите отдыханчикать, – сострил Аристов и было собрался присоединиться к нему, как резкий голос Татьяны остановил его:
– Хватит, никакой водки! Как всегда, есть все мастера, а убирать со стола некому! Виктор, изволь вымыть посуду!
Аристов картинно развел руками и громко прокомментировал:
– Баре зовуть! – Театрально поклонился кусту и ушел на кухню.
«Какая у них может быть любовь?» – в который раз подумал Чигринцев. Аристов, профессорский ставленник, сын деревенских фельдшеров из-под Костромы, был вывезен Павлом Сергеевичем, поступлен в университет и нынче, рано защитив докторскую, всерьез рассматривался как потенциальный завкафедрой и всемогущий секретарь ученого светила. Свойский парень, со своеобразным мрачноватым чувством юмора, обладал он стопроцентной надежностью и преданностью шефу. Князь, помыкая и кляня, как «своего», Виктора, пожалуй что, и любил, если способен был на такое. Неудачно отроманившая юность Татьяна к тридцати двум, кажется, поддавалась аристовскому напору – тот втюрился в нее с первых дней. Умело держа осаду, он выжидал и все чаще поговаривал об их возможной женитьбе. Профессор эти разговоры молчаливо поощрял. Волюшка от одной Татьяны получал в доме настоящую сердечную теплоту и, дружа с Аристовым, ее откровенно почему-то жалел. Впрочем, это было сугубо их дело.