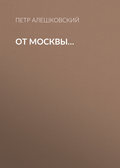Петр Алешковский
Владимир Чигринцев
9
Воля отпрянул, подтянул ноги, впечатался в спинку дивана, инстинктивно прикрылся одеялом до подбородка. Онемев, следил за пучеглазым.
Со стоном, как глубокий старик, тот опустился в черное отцовское кресло, медленно положил на колени тяжелые руки. Широкая загорелая кисть, толстые пальцы, короткие, по-крестьянски остриженные ногти, вздувшиеся узловатые вены – руки, похоже, сильные, жилистые, привыкшие к труду.
Гость сидел в гробовой тишине. Не слышно было даже дыханья, лицо в тени, подбородок опущен на грудь. Воля завороженно следил, боясь неловким движением выдать свое присутствие – человек с картины, похоже, его не замечал.
Наконец поднялась голова, лунный свет пал на хищно блеснувший зрачок, зашевелились пергаментные сухие губы. Бормотание – сперва тихое, не разобрать ни слова – все нарастало и нарастало. Руки заелозили по коленям, оторвались от них, сновали уже в воздухе, чертя неясные фигуры. Пальцы дрожали. Гость то теребил кисти халата, то поправлял свой непонятный головной убор, движения нарушились, как у тяжелобольного. Бормотание переросло в сплошной поток звуков, ночной посетитель то ли сетовал на судьбу, то ли упрашивал кого-то – тон его речи был жалостливый, сбивчивый. Вдруг, как щелкнула внутри пружина, резко вскочил. Принялся ходить по комнате от кресла к стене и назад. Так замордованный, давно заточенный в неволю зоопарковский волк, утратив ориентацию в пространстве и времени, знающий один инстинктивный приказ: бежать, семенит в вольере от стены к стене, вскидывает посреди пробежки пустые, слезящиеся глаза умалишенного на посетителей, но не замечает ни их, ни себя.
Душевное смятение завладело пучеглазым, слова слились в подобие воя – на губах проступила пена. Руки уже нервно сновали перед сном, как ночные мотыльки.
– Ты говоришь – за что, да? Нет! Все равно непоправимо, не-по-пра-ви-мо! – вдруг отчетливо произнес он, всхлипывая, повалился на пол, забился в припадке и затих.
Чигринцев словно проглотил язык, холодный пот проступил на лбу, но ни встать, ни даже повернуться на кровати он не смог – тело стало свинцовым, не подчинялось ему больше. Только глаза продолжали следить, и он отметил – рама пуста, значит, все это происходит на самом деле? И вот человек уже зашевелился, уже поднялся в полный рост, уже глядели на Волю затравленные, безумные, навыкате глаза, уже различал его, наливался гневом взор пришельца, а рука шарила, шарила по стене и, нащупав, сорвала с подставки драгунский палаш. Палец привычно скользнул по лезвию.
– Не точён, ну ничего, и таким достану, и снова достану, и завсегда достану, собака, – свистящим шепотом проговорил усатый, медленно приближаясь.
Воля не мог даже кричать.
– А-ах! – хрипло выдохнул ночной гость, вонзая палаш в диван, у самых ног Чигринцева. И, уже не соображая, исступленно принялся колоть, рвать матрас, подвернувшееся одеяло, но почему-то никак не мог достать Волю, словно незримая преграда ему мешала. – Убью, пес, сволота, убью, ничего не отдам!
О! Теперь речь его была вполне понятна! Скрежеща зубами, как японский самурай у Куросавы, он бил, бил, бил воздух, кровать, кресло – вопил истошно, так, что должны были слышать соседи, Татьяна в другой комнате. Он рубил, возбужденный, потный, напуганный более погибающего от страха Чигринцева. Хлопнула, разлетелась вдребезги лампочка, раскололась люстра, с грохотом просыпалось на улицу оконное стекло. В воздухе носилась матрасная вата.
– Крови, крови моей не получишь, собака, пес басурманский, пес, пес… – Его уже колотило.
В изнеможении он опустился на пол, отбросил ненужный палаш. Теперь он, кажется, молился, размашисто кидал кресты, бухался лбом в паркет.
– Мать Пресвятая Богородица, спаси мя, грешнаго! – выкрикивал сумасшедший портрет, хлопался лбом в пол и, кажется, рассадил себе голову в экстазе покаянного самоуничижения.
Нет, что-то здесь было не так, слишком картинно. Чигринцев снова ощутил силу в руках.
Потянулся к ночнику, включил свет. Никакого погрома – он проснулся, выскользнул из хладного ночного кошмара. Перевел дух, еще раз пристально огляделся, отметил привычный портрет, покачал сокрушенно головой.
– Книжков меньше читать надо, – сказал вслух скрипучим голосом знакомой деревенской бабки. – От книжков один вред, глаза устают, давление на мозг увеличивается, вот и помрачение наступает. Да и врут они все, книжки, – жизнь богачей! – повторил и рухнул досыпать, на всякий случай оставив ночник невыключенным.
10
Разбудила его Татьяна. Она встала, сварила кофе, яйца, накрыла на стол, потом только постучала в дверь.
– Вставай, рыцарь верный! – прокричала бодро, но в комнату не зашла.
Воля не собирался напоминать о вчерашнем, Татьяна сама расставила точки над «Р: подошла запросто, обняла, чмокнула в щеку.
– Волюшка, прости меня, дуру, ты – верный рыцарь, я не сомневалась, просто вчера сама была не своя, но что удивительно – помню…
Он перебил:
– Тсс! Проехали.
Раскрасневшаяся, свежая, но, кажется, нисколько не смущенная, Татьяна была чудо как хороша. Чигринцев закинул руки за голову, похрустел суставами, потянулся, разогнал застоявшуюся кровь. Рванул в душ. Чистый, здоровый, с удовольствием приступил к завтраку, что подавался с наигранной серьезностью.
– Знаешь, ко мне сегодня предок приходил с портрета, крови жаждал. – И уже со смехом, под кофе с сигареткой, рассказал о ночном книжном кошмаре.
– Я спала как убитая, – призналась Татьяна, – но теперь, как подумаю, нечасто, наверное, так спать придется. Теперь все будет по-другому.
– Поменьше думай, делай дело, тебе не до дум будет. Кстати, как там Ольга?
– Сейчас позвоню. – Она отправилась в комнату к телефону. Воля мыл посуду. В дверь вдруг позвонили.
– Кого нелегкая? – удивленно буркнул Чигринцев. Часы показывали полвосьмого.
– Если я правильно чую, сие – Аристов, – сказала Татьяна кисло и отворила дверь.
Точно – на пороге стоял Аристов, невообразимо помятый, похмельный, небритый и злой.
– Я вчера узнал, – произнес он вместо приветствия, – Ольга сказала. Что теперь делать?
Шагнул в квартиру, странно как-то поглядел на них, отметил, что в халатах, и, не в силах побороть ревность, вскинулся на Чигринцева:
– Что домой не поехали? Ольга не в себе совершенно. – Надо было хоть в чем-то их упрекнуть.
– Ольга в порядке, – сухо констатировала Татьяна, – я с ней пять минут назад говорила, а ты вот, кажется, опять? Тебе чего-то не хватает, Виктор?
– Понимала бы. – Аристов махнул рукой, побрел на кухню.
Татьяна специально ушла в комнату переодеваться, бросив через плечо:
– Воля, поспешай, нам надо ехать.
– Что скажешь? – Тяжелый похмельный взгляд буравил Чигринцева насквозь.
– Что сказать, плохое дело – рак.
– Знаю и без тебя, – оборвал Виктор грубо. – Что у вас с ней?
– Иди-ка проспись. – Чигринцев не в силах был сдержаться.
– Я пойду, не хотите – не надо. Я тихими стопами, как у классика, исчезаю. Сегодня переболею, завтра встану на ноги. Хотел помочь, но если без меня, если нэ трэба, я удаляюсь. Я и правда сын алкаша, папаша все, что горит, потреблял. Павел Сергеевич меня вытащил, на ноги поставил, да… Хороший ты человек, Воля, только пустой. Дай десять тысяч взаймы. Завтра все прекратится, но клясться не стану. Я не клянусь, я просто: сказал – сделано!
Он был тупой и безвольный, как чурбак, хотя хорохорился, но так, для блезиру.
– На, змей, но гляди, времени сейчас нет, а то б голову оторвал. – Чигринцев сунул ему в карман бумажку.
– Покорнейше благодарю, аз есмь змей, упырь, сами себя сосем по капельке. – Аристов безнадежно покачал головой: – Душу, Воля, пропить нельзя, но залить можно, да-с!
Потной ладонью провел Чигринцева по лицу, но не добродушно, скорей зло, чуть толкнул подбородок, вышел за дверь и шагнул в подошедший лифт:
– Барышне скажи – велели кланяться.
Двери щелкнули. Он уехал.
– Дал? – Татьяна стояла у порога, вся дрожа от гнева.
– Куда ж я денусь, дал.
– А что он сдохнет – подумал?
– Он сейчас без опохмелки сдохнет, тебе не понять.
– Я все, Воля, понимаю. Мне одно не ясно: почему, когда плохо, когда горе, заявится такой вот Аристов, и его еще пожалей. Почему всегда на Руси надо кого-то жалеть?
– Не знаю, – честно признался Чигринцев.
– А я знаю, – Татьяна даже топнула ногой, – потому что в этой стране жалость все заменяет. Все через жалость, и в этом болоте я больше не могу жить. Как только с отцом решится, уеду – к Ольге, куда угодно.
– Тут тебе Аристов – пара, он того же мнения, – не выдержав, пошутил Чигринцев.
Татьяна хмыкнула, обиделась и всю дорогу до дома молчала. И по пути в аэропорт разговаривала только с Ольгой. Зная наверняка, что она остынет, Воля посадил на переднее сиденье Ларри. С ним всегда было легко и просто.
11
Лариоша, как часто звали его свои в России, был, несмотря на стопроцентное русачество, истинный американец. Здоровый, большой, пунцовощекий, неунывающий на людях и до смешного часто жалующийся на депрессию в интимном семейном кругу. Американская депрессия – вид особой грусти, усталости, минутного разочарования – не имеет никакого отношения к клиническому российскому заболеванию и водкой не лечится; воспитанная в протестантском изоляционизме душа сама находит выход из тупика одиночества.
Вот и сейчас, покидая Россию, Ларри был сдержан и угрюмо хмурил чело. Поначалу говорили мало. Татьяна с Ольгой сидели обнявшись на заднем сиденье, щека к щеке. Воля не стерпел, первым нарушил гробовую тишину:
– Что, Лариоша, невесел? Радоваться, конечно, нечему, но переборем, так?
– Да, Воля, всем теперь будет тяжело, пойми, нам надо ехать – студенты ждать не станут.
– О чем ты? Я все понимаю.
– Не в одной Татьяне дело. Каждый раз, когда я уезжаю отсюда, грустно. – Ларри так беззащитно и искренне взглянул, что ясно было по лицу, как ему плохо. Откровенность только усугубляла задушевное признание.
– Приедете, в первые же каникулы прискачете назад, я вас знаю.
– Знаешь, знаешь, – Ларри мягко улыбнулся, – но здесь, в России, я ощущаю непередаваемую радость и непередаваемую жалость. Ко всем вам, к стране, мне тут хорошо. Два года стажировки – я никогда их не забуду – мне многое объяснили.
– Таинственная русская душа? – Воля попытался перевести на шутку его патетику.
– Зря шутишь. Я много поездил по свету, есть страны погибшие, там ничего не изменишь – нищета на веки веков, например Египет, но Россия – почему, за что, какой рок вас преследует?
– Ларри, тема-то истрепанная, если б я выпил, может, и поддержал бы разговор, но по трезвянке – все это пустое.
– Россия не конченая страна, – упрямо повторил Ларри.
– Стоп. Россия – Америка, мы одинаково горды, одинаково лишены статистики, и всегда с налету, на одном чувстве норовим решить неразрешимое. Скажи еще, что нам необходима демократия.
– Конечно, иного пути нет.
– Ларри, а ты кто – русский, американец или русский-американец?
– Наверное, американец, хотя в России я становлюсь больше русским, как мне кажется.
– Тебе так только кажется, а в Европе ты кто?
– Россия тоже Европа, вы почему-то всегда это забываете.
– Расскажи мне еще о комплексе, который испытывает каждый образованный американец, находясь в Европе.
– Конечно. У вас такая долгая история.
– Вот именно, но что в результате побеждает – деньги или история?
– К сожалению, деньги.
– Нет, Ларри, побеждает человек, побеждает сам себя. То, что ему нужно, то хорошо, если это хорошо; если плохо, начинаются проблемы с совестью, и это – другая история.
– Не знаю, я честно не знаю. – Ларри грустнел на глазах.
– От истории никуда не денешься: прошлое всех породило, и Америку – большой остров диссидентов – тоже. Потому-то на него и рвутся отовсюду, инстинктивно стремясь сбежать от прошлого.
– Что меня всегда поражает, русские такие рисковые. Все бросив, едут в неизвестность, а сейчас не прошлые годы, есть возможность: купи билет, слетай, посмотри, прикинь, нет, как в омут головой.
– Во-первых, у тех, кто едет, такой возможности нет, а во-вторых – так только и можно, иначе сил не хватит. Потом, коли денежки заведутся, можно наезжать, Княжнин же умудрился, и сколько таких.
– Княжнин – настоящий пионер, а мы – третье, четвертое поколение, мы – разнеженные. Да и кто сказал, что Княжнин счастлив?
– Счастье, Ларри, понятие почти придуманное. Сумел же он выстоять, создать дело, а потом не побоялся все продать и жить на проценты, так, по крайней мере, Аристов мне рассказывал. Здесь у него какое-то маленькое дельце, остатки.
– Не знаю, у нас не принято спрашивать. Княжнин, конечно, удачливый бизнесмен, но не думаю, что только деньги его сюда тянут.
– Может быть, хотя я считаю, что важней всего деньги, а даже если и нет – тут он уже не свой. Не столько мне не свой, сам себе не свой, понимаешь?
– Да, он мне подобное говорил, – признался Ларри, – и мне его жалко.
– Ладно, – резко оборвал Чигринцев, – много других имеется, нуждающихся в сострадании.
– Наверное, – кивнул Ларри. Он совсем скис и замолчал.
Подъехали к аэропорту. Выгрузились. Посадку еще не объявляли. Ларри с Волей принялись бродить по зданию, сестрам хотелось побыть одним. Какая-то женщина в добротном кожаном пальто, с золотыми сережками в ушах, держа за руку девчоночку лет пяти-шести, одетую тоже вполне прилично, вдруг отделилась от толпы, направилась прямо к ним и с ходу принялась канючить: «Добрые люди, помогите на билет, нас вот с дочей ограбили, кошелек стащили, даже купить не на что». Лицо ее умильно скривилось. Девочка тупо глядела в пол. Ларри незамедлительно полез в карман, но Воля его осадил.
– Даю полминуты и вызываю милицию, я здесь частый гость, – бросил он попрошайке.
Женщина, не изменив лица и позы, медленно принялась пятиться и растворилась в толпе.
– Ларри, ты всегда подаешь нищим в Америке? – спросил с ехидством Воля.
– Нет, пожалуй, редко, но здесь… – Ларри смутился.
– Ладно, не обижайся, я хотел только, чтобы ты понял, это профессионалка, – постарался загладить неловкость Воля.
– А как ты думаешь, Ольге легко в Америке? – спросил вдруг Ларри, отводя взгляд.
– Не знаю, – протянул Воля, – не задумывался, если честно, она же с тобой.
– Со мной-то со мной, но не забудь – у нас нет детей и не будет никогда. Ей плохо, я знаю. Но и здесь нехорошо. Почему?
– Потому, старина, что теперь полагается выпить, попечалиться на судьбу и разойтись довольными, согретыми, уверенными, что не один ты такой на белом свете, но я за рулем, а у тебя жена, отец которой, быть может, сейчас умирает в больнице. Всякое случается, правда?
– Да, да, – обреченно поддакнул Ларри. Он совсем впал в хорошо знакомую депрессию, и Воля проклинал себя, что занудил разговор, тогда как надо б было стараться его развеселить. Они слонялись без дела, не решаясь подойти близко к сестрам – те сидели на скамеечке отрешенные и покинутые.
Выпили по стаканчихсу «пепси», пробежали глазами по витринам валютного магазинчика. Платки, ложки, матрешки, хрусталь, майки с российской символикой, ряды бутылок, видеотехника. Какая-то живая мысль промелькнула вдруг в глазах у Ларри.
– Зайдем? – с просящей интонацией прошептал он.
– О’кей, пошли, почему бы и нет? – Воля толкнул дверь.
Ларри оглядел горку телевизоров, ткнул пальцем в портативный корейский «Голд стар».
– Вы принимаете карточки «Америкен экспресс»?
– Конечно. – Продавщица вытащила из-под прилавка коробку. – Триста двадцать долларов.
– Отлично, я беру. – Ларри протянул ей карточку.
– Постой, ты спятил, зачем тебе? – завопил Воля.
– Потом, потом… – От волнения руки Ларри тряслись.
Девушка быстро прокатила карточку в аппарате.
– Спасибо! – Ларри схватил коробку, протянул ее Воле: – Возьми, я прошу, на память, надо, это надо, Воля.
Воля посмотрел в его глаза и так, с коробкой вместе, большого и смущенного, обнял и крепко поцеловал.
– Эх ты, Америка, спасибо, Лариоша!
Тот задохнулся от радости. Лед был сломлен, настроение переменилось в момент – они захохотали и в обнимку, вдвоем держа коробку перед собой, вышли из магазинчика, сопровождаемые счастливыми улыбками продавщиц.
Ольга и Татьяна сперва не поняли, но через минуту и им передалось нервное веселье, счастье минуты, после которой хоть потоп, и они уже смеялись, особенно когда Воля пропел: «Раз Америка России подарила пароход. Две трубы, колеса сбоку и ужасно тихий ход!»
И смеялись, провожались, обнимались бесконечно, Ольга и Ларри плакали, но уже не тяжкой грустью, а как после покаяния, сладкой печалью сердца. Воля махал руками, смешно подпрыгивал, до тех пор пока они не скрылись из виду за стеклянной дверью.
Тогда только он обернулся к Татьяне. Та была взволнована, печальна, но, слава Богу, не угрюма.
– Нищие, между прочим, тоже в ответе за богатых, – глубокомысленно изрек Чигринцев.
– Дураки, какие вы дураки, мужчины, – сказала она ласково и потянула Волю к выходу.
12
Первое, что сделала Татьяна по возвращении домой, позвонила в больницу. Разговаривала с самим Цимбалиным. «Мочеполовой ас», кажется, ничего не скрывал, говорил как есть.
– Папе лучше, он очнулся! – сияя закричала Татьяна, бросая трубку. – Воля, Цимбалин считает, что папу вытянут. То есть как они всегда: сто процентов мы дать не можем, больной тяжелый, но… – Она ликовала. – Очнулся, и теперь дело идет на поправку.
Воля облегченно вздохнул:
– Пей, вольница, гуляй, веселись?
– Нет, нет, но Цимбалин почти уверен, что папа выкарабкается. Мы особенно должны быть благодарны доктору Самвеляну, реаниматору, он от него ни на шаг не отходил. Это тот чернющий! Благодарна? Да я его озолочу!
– На то и намекалось, – заметил Чигринцев презрительно.
– А что? Почему нет? Во-первых, мы с Цимбалиным откровенно договорились, что все будет оплачено; во-вторых, часть отделения – коммерческая, само собой я куплю папе отдельную палату, и в-третьих – врачи во всем мире получают хорошие денежки, и только у нас…
– Только у нас они всегда получали отличные денежки, – перебил ее Чигринцев, – не все, конечно, но профессор Цимбалин никогда не страдал от бедности. Павел Сергеевич вечно ему конвертик в халат совал после консультаций.
– Воля, на жизни не экономят! – решительно заявила Татьяна и умчалась в свою комнату. Вернулась она преображенная: в вечернем черного бархата платье, в туфлях на высоком каблуке. Отцовское колье облегало шею.
– Лилея! – вздохнул Чигринцев. – Что тебе взбрело в голову?
Татьяна посмотрела с влекущим кокетством, чуть раскосыми, красивого дербетевского разреза глазами. Расправив плечи, продефилировала на середину кухни, слегка коснулась рукой стола и, глядя в окно, понимая, что Чигринцев неотступно следит за ней, эффектно произнесла:
– Александр Сергеевич дает добрый совет: «Давайте пить и веселиться, давайте жизнию играть!» Хочешь шампанского?
– Мерси, богиня, я от вида вашего одного пьян немало, – откликнулся Воля.
– Тогда у старости отымем все, что отымется у ней, – прошептала Татьяна. – Я все знаю, – добавила серьезно, – не гляди так, я не буду реветь. Никогда раньше не жила одна… папа вернется, я знаю. Знаю, что рак неизлечим, но не хочу сейчас думать об этом. У меня к тебе просьба: расстегни, пожалуйста, колье, – она повернулась спиной, – там такой гвоздик хитрый.
Пришлось повозиться – замок был простой, но очень тугой, добротный. Татьяна терпеливо ждала. Наконец цепь неограненных рубинов распалась, Татьяна растянула ее на кухонной скатерти.
Пять рубиновых кабошонов в тяжелом серебре – центральный большой, далее уменьшаются. Сколько дадут, как думаешь?
– Хочешь продать? – Чигринцев с интересом смотрел на нее. – Профукаешь, а потом?
– Во-первых, мне неоткуда взять деньги на лечение. Нет, не думай, сестрица сама навязывала, просила, но я отказалась. Пока папа здесь и я с ним, я за него отвечаю, значит, и плачу, тут у нас с Олей старые и, быть может, глупые счеты. Во-вторых, это камни папины, всю жизнь он за них цеплялся, как всю жизнь цеплялся за несуществующую Пылаиху. Разве ты не понял? Он помешан на прошлом. О, ты его спроси, он тебе ответит, как все они говорят: мы ни о чем не жалеем, это было не наше, принадлежало народу, все давно прошло. Ах, майн либер Августин, словом. Но он этим жил и пока живет. Он не узнает. Я же жить тем, чего не видала и не знаю, не хочу и не буду. Понял?
– Да…
– Наш век – торгаш, знаешь, в сей век железный без денег и свободы нет! Ясно я выражаюсь?
– Куда как…
– То-то. Воля, все эти побрякушки – туфта. Кроме того, ты же поедешь в Пылаиху, добудешь клад, и опять заживем на чужие, а? Мы доживаем чужие, чужое, а жить надо на свое, свои. Так что дуй в скупку, сколько дадут – бери не задумываясь. Да и времени нет – платить надо скоро. Может, что и на конфетки останется. Должно остаться.
– Ты серьезно?
– Очень, ты не понял?
– Понял, но жалко.
– Жалко знаешь где? В пчелкином афедроне, как выразился бы Александр Сергеевич Пушкин, вперед! – Она даже подтолкнула его и вложила ожерелье в руку, с силой впечатала.
– Танька, прекрати, да найдем мы денег. – Воля предпринял последнюю попытку.
– Нет! – сказала она строго, и Чигринцев вдруг ощутил волю, столь, казалось, Татьяне несвойственную.
Она поднялась, картинно блеснула глазами, ушла в комнату и вернулась вскоре переодетая, обычная, в джинсах и легкой маечке с жизнеутверждающим американским призывом: «Не волнуйся, будь счастлив – хунта побеждает!» Встала к плите, сготовила на скорую руку поесть, с аппетитом накинулась на мощную шпикачку. Чигринцев последовал ее примеру.
– Ну что – поедешь? – спросила, хитро подмигнув.
– Куда деваться, уговорила, боюсь только, сегодня поздно, полвторого.
– Как раз обеденный перерыв кончается, но я не о том, я – о Пылаихе.
– А-а… – Он многозначительно попел головой. – В гости к Вурдалаку Ивановичу? А ты веришь?
– Ни во что я не верю, а вдруг? Папа – тот верит, я знаю. Не столько даже верит, сколько всю жизнь хотел верить.
– Почему же сам не искал? Или правда его ведьма на помеле отвадила?
– Ведьма не ведьма, но я от мамы еще эту историю слышала. Нет, думаю, он боялся не найти.
– Брось, Татьяна, какая-то романтика. Человек, столько переживший, и, прости, в такие годы…
– Вот именно что вы его не знаете, а он всякий бывает. – Татьяна отодвинула пустую тарелку. – Ну а теперь давай за дело! Позвони мне вечером, как там, ладно?
– Конечно!
– И завтра я еще имею на тебя виды. Если продашь, поедем совать взятку, а потом вали на все четыре стороны, но лучше всего – в Пылаиху, в деревню: свободною душой закон благословить, роптанью не внимать толпы непосвященной! – Она выпроводила его за дверь, чмокнула по-родственному в щечку на прощанье, как благословила.