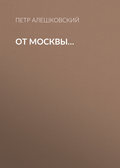Петр Алешковский
Владимир Чигринцев
6
По краям дороги мелькали торговые палатки, забитые легкой закусью и напитками на любой вкус: начиная с дешевых контрабандных водок до невероятного еще недавно «Асти Мартини». От пляшущего перед глазами изобилия немедленно захотелось чего-нибудь вкусненького. Чигринцев тут же и поддался соблазну – убедил себя, что грех рушить возникшее идиллическое настроение, и, предвкушая и домысливая прилавок ночного магазина деликатесов, сразу ощутил голод и завернул на Тишинку к залитому белым неоном заведению «Нью-Йорк», торгующему круглые сутки.
Все здесь было чисто, респектабельно и аккуратно, зеленый пластмассовый половичок, имитируя газонную траву, отделял и подчеркивал разницу между старым городом и новым магазинчиком. Под стать антуражу были и припаркованные машины покупателей.
Заданную гармонию нарушал разве что пьяный, привалившийся спиной к магазинной урне, чье белое, трясущееся лицо Чигринцев отметил краем глаза, взбегая но ступенькам. Над ним хлопотал некто, со спины ничем не примечательный, – обыденная ночная картина, никак не портившая пейзаж.
В магазине глаза потянулись к мясному прилавку, и Воля поймал себя на мысли, что не столько оценивает качество эскалопов и немецких сарделек, сколько судорожно калькулирует, и потому, дабы не обращать на себя внимание, сразу шагнул к полкам и принялся механически ощупывать консервные банки. Наконец опустил в корзинку продолговатую склянку с испанскими оливками и вежливо попросил продавщицу завесить полкилограмма копченых свиных ребрышек. Острый профессиональный нож скользнул по нежной косточке, без видимого усилия рассек молодые белые хрящики пополам – малиновый, остро пахнущий кусок вспорхнул на весы и тут же был умело завернут в белоснежную вощеную бумагу, опущен в невесомый пакетик, а затем уже и в аккуратный целлофановый пакет побольше (за счет заведения). В приклад добавились упаковка арабской питты и две бутылочки светлого пива из холодильника.
Расплачиваясь, Чигринцев услыхал, как громко хлопнула входная дверь и возбужденный голос произнес на повышенных:
– У вас здесь есть телефон? Надо срочно вызвать «скорую» – человеку на улице плохо!
Любопытствуя, Воля оглянулся: в проходе у кассовых аппаратов стоял Княжнин (он тут же признал в нем человека, возившегося с пьяным около урны). Лицо его, обыкновенно сдержанное и спокойное, было теперь возбуждено, глазасверкали и метались в поисках того, кто откликнется на его зов.
– Пожалуйста, позвоните от директора. – Девушка, ближе всего к нему стоявшая, вышла из-за прилавка и указала на маленькую комнатушку за железной дверью.
Княжнин рванулся туда, Воля подхватил пакет и поспешил за ним. Сергей уже накручивал телефон, рука, державшая трубку, слегка вибрировала. Увидав Волю, он кивнул на его приветствие, причем на лице сразу отразилась невероятная, нескрываемая досада, но тут же и погасла, через доли секунды он глядел уже холодно и деловито.
Сердечный припадок, люди идут мимо, принимая за пьяного, а человек умирает, – просто пояснил Княжнин. – Внимание, девушка, – он уже дозвонился и говорил в трубку отчетливо и со значением, – на Тишинке (продавщица, поймав его вопросительный взгляд, назвала адрес) человеку плохо: острая сердечная недостаточность. Нужен реанимобиль, и срочно! Нет-нет, не перебивайте, давление надает катастрофически, – не моргнув глазом приврал он. – Вы вышлете машину немедленно. Коллектив бригады получит вознаграждение – сто долларов, если успеет вовремя. Вы меня поняли? Назовите ваш номер… Повторяю, немедленно, иначе у вас будут крупные неприятности. – Дежурная, видимо, повторяла адрес, Княжнин кивнул головой и еще раз с нажимом добавил: – Вы все поняли верно? Жду. – И повесил трубку.
Чигринцев, продавщица и подошедший охранник глядели на Княжнина, не скрывая изумления. Но тот, словно всегда командовал людьми, спокойно и властно распорядился:
– Давайте, господа, на улицу, надо перенести человека в магазин.
Он умел подчинять. Тяжело хватающий воздух ртом, белый как лист бумаги, пожилой работяга в грязном пиджачке и затасканных брюках был перенесен в помещение и заботливо уложен на скамейку. Расстегнули ворот рубахи. Девушка, забыв про свой прилавок, сбегала в подсобку, принесла мокрую тряпку, смочила страдальцу лицо. Тот не произнес ни звука – все силы уходили на дыхание.
Вокруг немедленно собралась кучка посетителей, но тут вмешался охранник и оттеснил зевак на положенное расстоянье. Княжнин и Воля стояли у скамейки – за все это время они не обмолвились ни словом.
Бригада прибыла минут через десять. Княжнин встретил их у входа, протянул врачу зелененькую купюру и указал на больного. Реаниматор, оценив глазом ситуацию, пока разворачивал свой сундучок, поинтересовался:
– Ваш знакомый?
– Абсолютно незнакомый мне человек, теперь, полагаю, я тут больше не нужен? – с достоинством произнес Княжнин.
Врач поднял на него глаза, покачал головой, но ничего не добавил, занялся своим делом.
– Пойдемте, Володя. – Княжнин потянул Чигринцева за рукав.
Воспользовавшись суматохой, они вышли на воздух.
– Сергей, вас подвезти?
– Спасибо, я тут неподалеку… – Княжнин слегка замялся, но подавил смущение, лицо его тут же обрело непроницаемость. – Могу я просить вас об одолжении? Не рассказывайте никому, это… не стоит, правда?
– Да, да, понимаю…
– Ну и отлично, благодарю вас. Пришлось, знаете, сталкиваться в жизни с подобным… Собственно, чего лгать? Отец мой так и загнулся, – с деланной простотой заметил Княжнин и тут же, смутившись вырвавшегося признания, крепко и эффектно пожал Волину руку. – Увидимся вскоре, Ольгина проблема вполне решаема, я работаю в этом направлении.
Не оборачиваясь, прямо неся голову, он зашагал, похоже, в первый попавшийся переулок.
7
Едва Воля вошел в квартиру, позвонила Ольга. Собранная, всегда по-профессорски отчетливо проговаривавшая слова, она частила, сбивалась с мысли, почти плакала.
Утром Павла Сергеевича забрали с дачи на «скорой». Едва уломали, точнее, откупили машину, чтоб везти в Москву, а не в подмосковную коновальню. Срочно, с колес – кровотечение, задержка мочи – Профессора положили на стол. Резали целых три часа. К вечеру сообщили, что больной переведен в палату. Теперь там что-то затевалось по новой, кажется, грозила повторная операция. Татьяна сорвалась из дома на такси, Ольга и Ларри, закупоренные на приеме у княжнинского дипломата, могли выехать только через час-два. Завтра им лететь в Вашингтон. Ольга билась в истерике.
– Во-первых, успокойся! – строго приказал Чигринцев. – Во-вторых, соберись с силами и жди, помочь отцу сейчас ты не можешь. Дай телефон – я перезвоню, или после – домой. Я выезжаю, надеюсь застать Таню в больнице. Срываться вам – лишнее, спокойно пакуйте вещи, главное сейчас – без паники! Вспомни отца, наконец, как бы он на тебя посмотрел! Все, отбой, еду! – бросил трубку, сознательно резко, не дав ей опомниться.
«Мочеполовой ас», как окрестил его князь, профессор Цимбалин давно пользовал Павла Сергеевича по поводу аденомы. Князь тянул с операцией, и, видимо, зря. Хирург практиковал на Каширке, в длинной, обшарпанной, уродливо-голубой клинике, построенной перед олимпиадой, – Воля возил к нему князя на обследование. Весь район вокруг метро, забитый больницами, психдиспансерами, дурдомами и страшной, все подавляющей онкологической, вызывал у нормального человека смятение и тоску. Чигринцев всегда старался проскочить его, не глядя по сторонам. Теперь гнал именно в центр скопления, где боль и страдания человеческие ощущались кожей и не выветривались сквозняками, гуляющими по бездарно спланированному лабиринту.
Ошеломленный Ольгиным сообщением, Чигринцев твердо понимал: помочь он бессилен. Где-то в полуослепшем здании находился Павел Сергеевич, а быть может, уже и Татьяна, припаянная к стулу или влипшая в помытую хлоркой стену.
Воля вбежал в полутемный вестибюль, оттолкнул дежурного, бросился к лифту.
– По вызову Цимбалина, срочная консультация, – наврал с ходу и уже жал кнопку седьмого этажа.
В коридоре горело ночное освещение, ближайшие комнаты были затворены, на пульте у медсестры – никого. В дальнем конце маячила убредающая фигура.
– Подождите, пожалуйста, где тут персонал найти? – крикнул Воля. Лицо нехотя повернулось: черепашьи морщины, сработанный, щербатый рот, взгляд, полный тупой ненависти. – Дербетева, Павла Сергеевича, не знаете, его сегодня оперировали?
– Тут всех оперирують, – проскрипел больной, – всех, тут оне на диссертации людей режуть и кровь нашу на опыты беруть, а надо – хлебушка не допросишься.
Человек побрел дальше, в туалет. Зашел, оставив дверь открытой, закашлялся там надсадно и противно. Из туалета невыносимо воняло больничной дезинфекцией.
Чигринцев вернулся к пульту и вдруг приметил свет в одной из палат. Заглянул и понял сразу – сюда. Павел Сергеевич голый лежал на боку, как младенец, и, подергивая, пытался притянуть сухие ноги к животу. Из недоступного и надменного Профессора вмиг превратился он в жалкое и жутковатое, но родное до боли существо. Глаза, приоткрытые и пустые, ничего не видели. Правая рука, заломленная за голову, шарила по подушке, левая, безвольная плеть, подключена была к капельнице. В палате царил запах горячей крови. Над койкой завис здоровенный, волосатый и большерукий врач. Внимательно следя за потугами больного, он что-то добродушно ему нашептывал.
– Павел Сергеевич! – позвал Воля тоненько. – Павел Сергеевич, как вы? – Не дождавшись ответа, переключился на врача: – Что, что, доктор? Слышите, как он?
– Ваш больной? – ничуть не сомневаясь, спросил великан важно.
– Конечно, я родственник.
– Очень, очень хорошо! Подержите! – протянул снятую с подставки капельницу. – Да держите же крепко, меньше паники!
Воля засмущался собственной робости, а потому проворно, на цыпочках обежал кровать и тут только заметил каталку.
– Куда вы его?
– Ничего особенного, сосудик внутри кровоточит, нужно подштопать. Да не дрожите вы-то сам, дело нехитрое… Давайте, я поднимаю и перекладываю, а ваше дело – капельница. Раз-два – взяли! – Врач подсунул иод Павла Сергеевича ручищи. – Ну-с, больной, поднимаемся.
Павел Сергеевич застонал, голова его дернулась, глаза открылись – кажется, что-то они уже соображали.
– Больно мне, больно, – простонал князь, – очень больно, кто тут?
– Павел Сергеевич, это я, Воля, все будет хорошо.
Врач привычно поднял обмякшее тело, переложил, как мешок, на каталку.
– Воля! – Холодная шершавая рука нащупала чигринцевскую руку. – Воля! На каком я свете, я уже в аду? – Кажется, Профессор пытался острить.
– На этом, на этом, Павел Сергеевич, – нарочито бодро прокричал ему в ухо Чигринцев.
– Ты слушай, я не наврал, что бы они ни говорили, бойся только белогорлой собаки… упырь… – Голос дребезжал, срывался. – Он приходит, приходит, вот, надо мной, больно, больно снизу… Где я, Воля?
– Отлично, в упыри меня еще не записывали. А мы ж и есть упыри, так, профессор? Ну, покатили! – Хирург, довольный собственной остротой, захохотал.
– Погодите минуточку! – взмолился Чигринцев.
– Нет, ждать нечего. Вот и сестра. Где тебя черти носили? – как-то въедливо и слишком спокойно спросил доктор входящую девчонку в белом халате.
Операционная готова, можно везти, – доложила она и профессиональным жестом выхватила из рук Чигринцепа капельницу.
Больного накрыли простыней до подбородка – Воля заметил на ней свежие кровяные пятна.
– Господи, папа! – В дверях застыла Татьяна.
– Поехали, господа, поехали, все узнаете в справочной, – властно оборвал немые вопросы доктор. – Мы недолго, полчасика, чистая профилактика. – Играючи толкнул каталку, покатил по коридору к лифту.
Павел Сергеевич что-то силился сказать, шевелил губами, Чигринцев разобрал странные слова: «яблони… большие яблони…» Татьяна едва поспевала за ними. Больного ввезли в лифт. Врач с медсестрой на них уже не глядели. Двери захлопнулись.
– Спокойно, теперь запасись терпением и жди. – Воля крепко обнял ее за плечи. – Поехали вниз, здесь мы ничего не добьемся.
8
– Что он имел в виду, поминая большие яблони? – спросил Чигринцев, чтоб как-то отвлечь напуганную, онемевшую Татьяну.
– Может быть, сад в Пылаихе?
С трудом удалось ее разговорить. Из детства, короткого, но безмятежного, из первых младенческих четырех-пяти лет князь крепко запомнил пылаихинский сад. Отец его, Сергей Павлович, выполняя волю покойного дяди, занимался имением серьезно. Он жил землей. Революция лишила смысла жизни. Маленького Павлушу с матерью отослали к родне в Москву. Сам барин остался при хозяйстве сперва выборным сельским старостой, затем почему-то сторожем. Говорили, что в промозглую мартовскую метель, последнюю в году, но чрезмерно злую, он промерз до костей и в одночасье скончался от пневмонии. Впрочем, подробности последних его дней так никогда и не стали известны семье – схоронили князя спешно, полутайком его же крестьяне.
Мать мыкалась в Москве с сыном – без профессии, лишенка в уплотненной квартире, случайным приработком живая, умерла она сразу, как только Павлушенька поступил в ИФЛИ, словно ждала специально решения его судьбы.
Из того детства остался в памяти чудный яблоневый сад, запах ссыпаемых в подпол на зиму яблок: разноцветных, разносортных, вкусных, чистых, веселых, как короткая жизнь при полном достатке.
– Папа не любил ходить в Пылаиху, я сама была там раза два – никакого сада не помню. – Смертельно уставшая, Татьяна подняла глаза. – Как теперь быть, Воля?
– Перестань, – он обнял ее бережно, но крепко, – перемелется, мука будет.
– Да… папина фраза. Я люблю его, люблю и боюсь… боюсь, что теперь будет, – поправилась она спешно и неловко, стесняясь собственной проговорки.
– Посиди, я пойду узнаю! Или лучше позвони, успокой Ольгу, они наверняка уже дома. – Чигринцев старался как-то ее занять. Но сам себе места не находил.
Дежурная пыталась связаться с операционной – пока ничего не сообщали. Так, перебирая в памяти мелочи, срываясь к телефону на переговоры со сходящей с ума Ольгой, настойчиво названивая на этаж, просидели два часа.
Большерукий и волосатый доктор соткался из сумрака раздевалки, как вестник с того света. Они разом вскочили с банкетки.
– Значит, так. – Врач смотрел устало и мрачно. – Операция прошла нормально, но больной плох. Сделано все возможное. Павел Сергеевич в реанимации.
– Да, да, но почему? – прошелестела Татьяна.
– Скажу прямо: у больного рак – аденома слишком запущена, – развернутой ладонью он погасил Татьянин вопль, – мы удалили все лишнее. Сейчас надо бояться другого – справится ли сердце. Тяжелый соматический больной. Профессор Цимбалин отдал необходимое распоряжение по телефону, никаких лекарств пока не нужно. Поезжайте домой – сегодня-завтра все решится. Звоните утром, запишите мой телефон, я дежурю до двенадцати дня.
Еще что-то лепетала Татьяна, благодарил врача Чигринцев, заверял, что любое лекарство, за доллары, моментально будет доставлено. Реаниматор спокойно кивал головой. Главное он сказал и теперь вежливо, но настойчиво пытался подвинуть их к выходу.
– В реанимационное вас все равно не пустят – дня два вам здесь делать нечего. Я надеюсь, справимся, – выжал на прощание улыбку.
Чигринцев свел Татьяну по ступенькам к машине.
– Домой?
– Нет, Воля, нет, пожалуйста, я сейчас не смогу с Ольгой говорить, я умираю, можно к тебе?
Он немедленно согласился. Татьяна опустила голову ему на плечо. Так, неудобно, молча и ехали по мертвому городу – как сквозь туман, не замечая дороги, домов, на скорбном автопилоте. Затем он заварил чай, дал ей таблетку родедорма, прогнал в ванную. Татьяна мылась, пока он звонил Ольге – та уже не рыдала, собралась, смирилась, все приняла как есть.
– Завтра отвезу вас в аэропорт, в больнице мы пока не нужны, они делают все необходимое, – в третий раз повторил Воля.
– Хорошо, спокойной ночи… – От ее голоса веяло безнадегой, могилой.
Тут явилась Татьяна: в толстом махровом халате, красная, с большими, возбужденными в полный глаз зрачками. Подошла, обняла, прижалась жарко, уткнулась носом в его ключицу и разрыдалась. Все, что копилось, полилось наконец нескончаемым потоком. Он и не старался его остановить.
И что теперь будет? Рак? И Профессор, отнявший у нее жизнь, высосавший, выжавший, как губку. И работа в лингвистическом секторе, никому не нужная, глупая, потому как сама она глупая. И этот Аристов, исчадье ада, присоска, минога – «Ты на губы, на губы посмотри!» Нелюбимый, не умеющий любить, покорный, стерегущий, как пес. Слова лились потоком, он попытался ласково ее отстранить, но Татьяна только крепче вжималась в его грудь.
– Пойдем спать. – Он увлек-таки ее в спальню.
Медленно, шаг за шагом, она боялась расцепить объятья, протащились по коридору. Он ласково, так гладят больного ребенка, гладил ее по голове.
– Ложись, Танечка, ложись, спи, утро вечера мудренее. – Нежно уложил в кровать.
Татьяна перестала всхлипывать, сжалась, как загнанный в угол зверек. Испуг, безумие читались в раскрытых широко глазах. Зареванная, простоволосая, в полураспахнутом халате, теперь молча цеплялась она за спасительную руку. И снова гладил, и шептал что-то на ушко, полную глупость – не слова, тембр голоса все решал – ее следовало убаюкать.
– Воля, Волюшка, как я одна? – По-дербетевски капризно поднялась дрожащая верхняя губка. – Иди ко мне! – потянула требовательно, настойчиво и, не отдавая, кажется, отчета, принялась целовать его лицо.
– Хорошо, хорошо, сейчас. – Чигринцев выскользнул из ее объятий. – Сейчас приму душ, ты пока спи, сладенько спи.
Потушил лампочку, укрыл ее, юркнувшую в постель, заботливо поцеловал в лоб.
– Я не засну, я не смогу, – прошептала Татьяна, свернулась клубочком и сразу задышала глубоко и спокойно – родедорм ее укатал.
Чигринцева трясло – долго, мелко и противно. И когда заглянул в комнату, увидел, как безмятежно она спит, волнение не отступило. Он прошел в кабинет, застелил диван. Профессор, рак, больница, Татьянины рыдания, поцелуи – все потихоньку утонуло в только ночью возможном чувстве, когда подступает греза и – уже стеклянный – глаз следит неотрывно за оживающими на обоях тенями.
Вспомнился, выплыл армейский хоздвор, кладбище пыльной техники, укромный пятачок. Ефрейтор Черепанов, новокузнецкий дебил, без меры душащийся «Шипром», сидит на подножке самосвала – местный дедок, под настроение поучающий молодняк. И их – четверо салаг. И Надька из военного городка – одна на пятерых. Август. И все смотрят на заплеванный асфальт. Пьют на затравку портвейн «Молдавский» из тяжелой зеленой бомбы, затем идет по кругу беломорина с узбекским планом. И хохот, хохот, по малейшей причине и без. И разрастающийся на весь мир, гигантский, как строительный кран, далекий казарменный фонарь. И все хохочут, и только предательски дрожат коленки.
Теперь, после душа, он тихо начинялся бредовой, тяжкой радостью, упивался своим петушиным геройством, ценою в копейку. Зато мышцы тела ныли в отместку, а чистые простыни лечили их легким прикосновением, как возбужденного шизофреника прохладный душ Шарко.
Луна залила кабинет спокойным светом, гравюрки и разные финтифлюшки по стенам обретали в нем особую четкость. С отцовским украшательством соседствовали его нововведения: драгунский палаш, за бесценок купленная по случаю у ханыги большая икона равноапостольного Владимира, отреставрированный друзьями портрет угрюмого человека в простенькой без виньеток золоченой раме. Серый домотканый халат, пояс с кистями чуть сбоку, лихие офицерские усы, слегка вниз в одну точку уставившиеся большие черные глаза навыкате, какая-то то ли тюбетейка, то ли мурмолка на голове. Сработано явно крепостным в конце XVIII – начале XIX столетия.
Портрет выклянчил все у той же тетушки. По преданию, изображен на нем был кто-то из Дербетевых – роды Чигринцевых и Дербетевых за долгую историю пересекались дважды. Воля внушил себе, что усач с картины – ушедший на покой хорватовский поручик, владелец таинственной Пылаихи. Картину он любил.
«Красный мурза» не раз выпрашивал картину у тетки, да безрезультатно: тетка любила Волю. Это приобретенье долго грело Чигринцеву душу, как пусть малая, но победа над надменным Профессором.
– Что, брат, видишь, какие мы герои, – Воля вдруг с удовольствием прищелкнул пальцами, – давай, заходи в гости, поболтаем. Что там клад, есть он на самом-то деле? Признавайся!
Усатый в халате поднял выпученные глаза, вздохнул картинно и запросто шагнул из рамы вон, как через порог переступил.