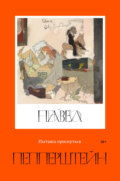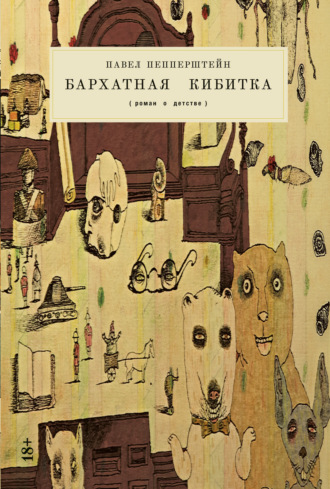
Павел Пепперштейн
Бархатная кибитка
Итак, Злобин не поверил письму. Решил, что это я сам его написал. И, очень обрадовавшись, продолжал донимать меня.
И вот идем мы как-то раз с мамой мимо школы. И вдруг вижу – навстречу нам продвигается Злобин. Я шепнул маме: вот он, Злобин этот ебучий. Мы подошли, встали перед ним. Злобин стоит, смотрит на нас и улыбается. Мама стала подначивать меня: «Давай, ёбни ему разок. Звиздани по роже». Но как звиздануть по улыбающемуся лицу? У меня и в мыслях такого не было. Я мог атаковать кого-либо, только находясь в состоянии берсерка, а состояние это не являлось по заказу. К тому же я это состояние ненавидел. Так что я стоял, как дурак, и улыбался ему в ответ. Так мы постояли и пошли себе дальше.
Но после этой встречи Злобин все-таки отстал от меня. Подумал, что не только я ебанутый, но и вся семейка у меня ебанутая. Благоразумно решил не связываться с пивовариями-ебанариями.
И наступила для меня в школе относительно спокойная жизнь, лишь слегка отравляемая стабильной ненавистью педагогов. Особенно не терпела меня наша классная руководительница, преподавательница английского. Лексикончик у нее был лишь немного послаще злобинского. «Чего ты там копаешься, как лошадь в дерьме?!» – орала она на меня на весь класс, когда проявлял я свойственную мне медлительность. Была она молодая, сисястая. Фигуристая, как говорят в народе. С крупной жопой, обтянутой джинсами клеш. Слегка в стиле молодой Гурченко. Считала себя очень привлекательной женщиной и уже в классе шестом шепталась с некоторыми нашими девочками о мужиках, о сексе.
Вскоре сколотилась у нас и в этой школе, как прежде в детском саду, микрошайка отщепенцев из трех человек. Три мушкетера в стиле горе луковое. Друзей моих звали Андрей Ремизов и Володя Ленский. Володя Ленский был паренек действительно с душою чисто геттингенской. Ему не повезло во всем: и с литературным его именем, сообщающим ему несчастливую судьбу пушкинского героя, и с внешностью: огромные его выпуклые, светлые глаза на верблюжьем личике смотрели прямо в душу каждого встречного, и это бесило население. В результате ему выпала та самая злополучная роль жертвы, от которой мне посчастливилось уклониться. Били его за то, что больно умный, за интеллигентские его шутки, подслушанные у родителей (чувства юмора он был лишен напрочь). Он почему-то пытался понравиться школьным нашим хулиганам, обращаясь к ним «милостивые государи». Но «милостивые государи» не были к нему милостивы и охотно наваливали ему пиздюлей за подобное обращение. Вечно он ходил в ожогах от неудачных химических опытов. Родители его, то ли химики, то ли физики, купили сыну домашнюю лабораторию в магазине «Юный химик». Постоянно он ставил дома у себя опыты, постоянно там что-то у него взрывалось, лопалось, горело. Хороший, в общем, парень, добрый, но я больше любил Ремизова. Андрюшенька Ремизов стал для меня реинкарнацией моего детсадовского друга Кости Воробьева. Такой же вечно развяленный, расклякший, как мороженое в летней тарелке. Такой же инфантоид, как и я. Вечно он висел у меня на плече, словно расслабленная хихикающая шубейка. С ним мы воссоздали чаемую моей душой дружбу двух идиотиков-хохотунов в духе Бивиса и Батт-Хеда. При этом был он хорошеньким мальчиком с родинкой на щеке, с бархатными заглюченными глазами. Вырос он среди женщин, жил с мамой и бабушкой в крошечной квартире в хрущобе. Роскошью и достатком там не пахло, но этого не потребовалось, чтобы создать максимально изнеженного мальчика. Только в позднем Советском Союзе встречал я (причем на каждом шагу) этот удивительный феномен: на крайне скудном бытовом фоне, в условиях всеобщего воздержания, расцветали в советских людях цветы потрясающей изнеженности, капризности и избалованности. Андрюшенька был настоящим принцем из хрущобы. На крошечной убогой кухоньке у него дома мама и бабушка кормили его исключительно мозговыми котлетками. То есть нежнейшими, воздушнейшими котлетками, слепленными из костного мозга. Я не разделял андрюшенькин восторг в отношении этого лакомства, но из солидарности с ним иногда съедал полкотлетки. Андрюша располагал личной веселой собакой по имени Франт и вообще жил припеваючи. Дружили мы с ним, что называется, не разлей вода. И вся эта дружба погружена была в безостановочный, беспричинный, неискоренимый хохот. Стоило нам встретиться взглядами – и мы уже оседали на пол от смеха, валялись, извивались, издыхая от хохотливого экстаза, на тротуарах, в песочницах, на лесных тропинках, на щербатом асфальте дворов, на школьном линолеуме. Для хохота нам не нужны были шутки, анекдоты, комедийные фильмы. Нас смешило все. Смех как наркотик, как щекочущий воздух, который вдыхали мы жадно, глубоко и с наслаждением. Мы тусовались с ним в школе, во дворах, в наших квартирах, где обожали мы ползать по паркетам, играя в солдатиков. Маленькие пираты, ковбои, уланы, драгуны, советские оловянные рядовые. При этой всей бескрайней веселости Андрюшенька был настоящим ипохондриком, зацикленным на теме здоровья. Что бы мы ни делали, Андрюшеньку прежде всего интересовало, полезно ли это для здоровья. Вовсе он не являлся болезненным мальчиком, вполне здоровый и бодрый мальчуган – откуда такой постоянный интерес к укреплению здоровья? Наверное, от мамы и бабушки.
Андрюшенька был неимоверным поэтом. То есть писал прекрасные стихи. Точнее, нет, сам не писал, ему бы это и в голову не пришло. Он жил с полным равнодушием к поэзии, за пределами школьной программы никаких поэтов не читал. Да и в рамках школьной программы он старался их не читать – на хуй они нужны, эти поэты обосранные? Ну то есть он к ним никакой враждебности не испытывал, даже не считал их обосранными – ну, поэты и поэты, Батюшков, Баратынский, Багрицкий, Твардовский, Исаковский… Поэты-песенники. Они вообще-то все просто крутейшие, святейшие, как бы осыпанные светящимися стразами… Если кто сомневается в их святости, значит, этот некто – полный мудак. Или мудакесса (политкорректность никто блядь не отменял).
Иногда, когда Андрейчик заходил ко мне в гости, сажал я его в старое резное кресло, сам извлекал из белого пластикового футляра (он еще такой пупырчатый был, этот футляр, приятный на ощупь) любимую свою бело-оранжевую пишущую машинку tbm de Luxе, сработанную в Югославии (эту пишущую машинку папа подарил мне на десятилетие, этот подарок и сделал из меня писателя), вправлял свежий лист и говорил Ремизову:
– Ну, давай, Андрюша, продиктуй мне свой стих.
И Андрюша диктовал, не задумываясь. Всегда стопроцентная импровизация, и неизменно отличнейшая.
Я изведал края,
Все покрытые горной осокой,
Где телеги несут
Упоенных жарой дровосеков.
Или такое вот загадочное стихотворение:
Я вошел. Меня темень объяла.
Об ведро я споткнулся. Упало.
Наконец на последнем этажике ветхом
Я увидел старушку, покрытую мохом.
И одежда ее, вся в заплатах и пыли,
Отвратила меня от нее.
Столько лет прошло, а до сих пор помню наизусть стихи моего друга.
Простите меня те из моих читателей, которым пришлось пробивать себе дорогу в жизни и ценою прилагаемых усилий достигать тех или иных чаемых горизонтов. Я не принадлежу к вашему числу. Никогда я ничего не добивался, никогда не стремился что-либо доказать взрослым или сверстникам своим. Перед вами детство тепличное, хотя при этом аскетичное. Сейчас придают большое значение деньгам и положению в обществе. Отчасти так было и в описываемые мною времена, но это не касалось той среды, в которой я вырос и сформировался. Я дитя позднесоветской богемы, то есть того мира, где подпольные миллионеры тусовались с нищими поэтами, послы иностранных держав обнимались с дервишами, а дочурки советских вельмож благоговейно облизывали уши изможденных диссидентов, недавно выпущенных из тюрьмы. Богема по сути есть осуществленная социальная утопия, мир, где агнец возлежит со львом и шакал заискивает перед улиткой. Нищета в этом мире бывала роскошной, вальяжной, капризной, почитаемой, изысканной, священной. Богатство в этом мире бывало тайным, укромным, сокровищным, пиратским, кощеевско-бессмертным, романтическим, приключенческим, отчаянно-авантюрным, мифологическим. Родители мои никогда не купались в роскоши и никогда к ней не стремились. И в то же время жизнь наша полнилась до краев бесчисленными наслаждениями и блаженствами. С точки зрения иных социальных групп все это выглядит непостижимыми сказками. Тем не менее это правда. Никогда у нас не было, например, машины, дачи или большой квартиры. О прислуге и говорить смешно. Читая воспоминания моих ровесников, я сталкиваюсь с их страстными мечтаниями, порожденными обществом дефицита. Мечты об иностранных кроссовках, об американских джинсах, о записях культовых музыкальных групп. Читая об этом, чувствую себя изгоем, инопланетянином, законченным фриком. У меня этого всего не было, и я никогда об этом не мечтал. Мне насрать было от всей души на модные кроссовки, джинсы, на популярные музыкальные группы. Никогда в жизни не хотел я мотоцикл или тачку, разве что собачку. Меня не тошнило от советского ширпотреба, я с наслаждением и гордостью напяливал на себя уродливые советские пальтишки, носил ботинки «прощай, молодость!» – суперстильные, на мой взгляд, пенсионерские боты на молнии, с войлочным верхом и приклеенной к этому верху резиновой галошей. Я не просто их носил, потому что ничего другого под рукой не было. Нет, я охотился за ними, специально ездил их покупать в какие-то замшелые подмосковные магазины. Короче, был я с самых юных лет оголтелым ретромодником, зашкафным панком. Я первым придумал носить джинсы с подтяжками. В восьмидесятые годы это стало модным, но я одевался так уже в середине семидесятых. Надеваешь расклешенные джинсы, и не какие-нибудь престижные левайсы, а самые уебищные болгарские, а к ним прицепляешь дедушкины подтяжки, найденные в шкафу. У меня не было никаких образцов для такого выпендривания. Я измышлял все это самостоятельно, самопально. Я мечтал о цилиндре, а не о модных кроссовках. Помню, как я охотился за полотняным картузом образца 1930 года, каковой подсмотрел я на бошках каких-то стариков. Наконец я нашел такой картуз – он продавался только в ГУМе, а больше нигде. Я наотрез отказывался расстегивать верхнюю пуговицу рубашки, я застегивался под самое горло, да еще и поднимал вверх рубашечный воротник, чтобы его углы торчали торчком, как у франтов девятнадцатого века.
Советское регулярное население реагировало по-разному на мой облик малыша, стилизующегося под безумного пенсионера. Они привыкли огрызаться и приебываться к хиппарям, к неформалам, а тут такой вот неопознаваемый фрукт. Ретрофрики еще не вошли в моду, и я казался белой вороной на черном снегу. Тем не менее нечто тревожило их в моем облике. Сумасшедший или же он так выебывается? Или ребенок сумасшедших родителей? Или, может быть, сирота, одетый с чужого плеча? Или какой-то тусклый клоун-ниндзя? Или малолетний сектант? Как-то не складывалась картинка, происходил сбой социально-психологической идентификации. Открытой агрессии это не вызывало, но подспудное раздражение – да.
«Ты одет как мудак», – искренне обратился ко мне как-то раз в электричке подвыпивший рабочий. Сказал беззлобно, даже как бы с сожалением. Весь этот букет смутно-подавленных реакций меня очень забавлял почему-то.
В разнообразных квартирах, где случалось мне жить в детстве, редко доставалась мне отдельная, собственная комната. Иногда доставалась, но не надолго. В целом она была мне не нужна. Хотя я и производил порой впечатление замкнутого и интровертного ребенка, но уединения не искал, и толчея на площадке меня не смущала. Если о поездах, я комфортнее чувствовал себя в плацкарте, чем в купейном вагоне.
С удовольствием засыпал на раскладушках, диванах, козетках, кушетках, оттоманках, нимфоманках, скамейках. Спал в гамаках, на чужих шубах, на балконах, верандах, даже на подоконниках. Шныркался по углам в рубашонках, распашонках, опушонках, пижамках, панамках, куртяшках, пальтишках, ушанках, лыжных шапках, фуражках. Иногда мурашки пробегали по моей детской коже.
Глава десятая
Детские страхи
Рано или поздно всем детям рассказывают одну и ту же страшную историю о женщине, которая шила, зажав иголку зубами. Что-то отвлекло или напугало эту женщину, и она проглотила иглу. После этого женщина еще долго жила, не испытывала особо неприятных ощущений, но иголка все эти годы украдкой путешествовала по ее телу, пока в один чудовищный день не достигла сердца и не пронзила его. В тот миг женщина умерла.
Эта леденящая история (совершенно недостоверная с физиологической точки зрения) поразительно распространена. Сам по себе этот рассказ, как некая зловещая иголка, добирается до сердца каждого малыша. Байку эту рассказывают детям либо другие дети, либо некие пожилые женщины, бабки, нянюшки, соседки, воспитательницы детских садов, старшие братья и сестры. Рассказывают, добавив в звучание своих голосов нечто замогильное, значительное, втайне торжествующее. Этот вездесущий рассказец можно отнести к категории так называемых быличек – по сути сказка, но выдаваемая за историю из жизни.
Отчасти напоминает сказку о Кощеевом яйце. Только вот в сказке о Кощее Бессмертном игла не была убийцей сердца. Она сама была сердцем, тайным средоточием жизни Кощея. Также напоминает эмблему любви сердце, пронзенное стрелой Амура (или иглой Амура).
Я услышал эту историю о женщине и игле в детском саду, и она меня не на шутку испугала.
Сразу же я решил, что в какой-то момент своей детской жизни тоже проглотил иглу и теперь она путешествует по моему организму. Дома над моей кроватью висело множество картинок, вырезанных из различных журналов. Все эти картинки были приколоты к обоям железными булавками. Иногда булавки отваливались и падали в мою кровать. В моем мозгу явилось ипохондрическое предположение, что в одну из ночей я спал с открытым ртом, в рот мой упала булавка и я проглотил ее, не заметив.
Этот страх, связанный с мыслью о беззащитности спящего существа, вскоре дополнился другим. Вечерами родители часто уходили в гости и оставляли меня одного. Предполагалось, что я буду спать. Но я не спал. Я постоянно ходил по квартире, курсируя между двумя точками. Одной из этих точек были старинные настенные часы с маятником в футляре из красного дерева. На белом эмалированном циферблате виднелась изящная надпись Le Roi a Paris («король Парижа»). На этом циферблате я наблюдал медленное, вязкое, мучительно застывающее движение времени. Время и было «королем Парижа», и иногда мне казалось, что этот король умер или превратился в статую. Взглянув на циферблат, я сразу же отправлялся в другой конец квартиры, к кухонному окну, откуда видна была автобусная остановка. Время от времени к этой остановке подъезжали освещенные изнутри автобусы, полупустые по причине позднего часа. Из автобусов выходили немногочисленные люди и темными силуэтами двигались по асфальтированным дорожкам, изредка проходя сквозь пятна света, падающие от янтарных или же перламутровых фонарей. Я всматривался в эти силуэты, надеясь опознать в них моих возвращающихся родителей. Но это были не они. И я опять шел коридором в дальнюю комнату, чтобы взглянуть в белое круглое тикающее лицо «короля Парижа». Квартира, столь родная в присутствии родителей, в эти ночные часы казалась отчужденной. В предметах, в электрических лампочках, в блеске паркета – во всем проступало тревожное напряжение вкупе с некоторой загадочной опустошенностью. Моя комната оборачивалась чужой, незнакомой и насупленной, как гостиничный номер в малоприятном городе. Словно никогда прежде я не жил здесь, не спал в этой кровати. Не играл этими игрушками, равнодушно валяющимися на полу.
И сам я становился в те часы чужим себе и пустым – как кегля, как серая картонная коробка. Ничего у меня не оставалось, кроме вязкого течения времени, кроме освещенных автобусов в темном окне. Иногда, если час был не совсем поздний, я включал черно-белый телевизор. Но то, что я созерцал на пузатом выпуклом экранчике, не успокаивало меня. Напротив, тревожило. Казалось, даже телевизор подменили. В присутствии родителей он был волшебным фонариком, но в их отсутствие превращался в источник тревожных вибраций.
Как-то раз я наткнулся на театральную постановку «Гамлет». Эта театральная постановка оказала на меня столь разрушающее воздействие, что мне после этого на целый год запретили смотреть телевизор.
Меня напугала история гибели отца Гамлета, датского короля. Король спал в саду, когда к нему приблизился Клавдий и капнул в ухо спящего каплю яда. После этого я отказывался засыпать, мне казалось, некто капнет каплю яда в мое беззащитное ухо. Кто бы мог совершить такое? В нашей трехкомнатной квартире на одиннадцатом этаже мы жили втроем: мама, папа и я. Конечно, я не думал, что родители собираются убить меня. Я знал, что они меня любят. Но мне чудилось, что еще некто обитает в нашей квартире, кроме нас. Некто невидимый, таящийся, возможно, злокозненный. Возможно, обладающий ядом.
Вспоминаются стихи Ахматовой:
В том доме было очень страшно жить,
И ни камина свет патриархальный,
Ни колыбелька нашего ребенка,
Ни то, что оба молоды мы были,
Не ослабляло это чувство страха.
Теперь ты там, где знают всё, – скажи,
Что в этом доме жило кроме нас?
Как правило, эта жуть, таящаяся в пространствах, ассоциируется со старыми домами, с таинственными замками и ветхими особняками. Но мы жили в простой и светлой советской квартире на одиннадцатом этаже недавно построенного стандартного блочного дома. В ясные дни веселое солнце наполняло наши комнаты, как наполняют апельсиновым соком прозрачную чашку. Ярко синело небо за нашими окнами. Все было преисполнено молодостью – молодостью моих родителей, молодостью этих домов, молодостью прежде не застроенных окраин. И то, что оба молоды вы были… (Обращаюсь я мысленно к своим родителям.)
Отчего же тогда я так боялся капли неведомого яда? Отчего горевал, что ухо не может закрыться на ночь, как закрываются ночью цветы? Отчего едкие страхи омрачали мое счастливое детство? Что там жило, кроме нас, на этом одиннадцатом этаже?
Вообще-то там было совсем не страшно жить. Я ощущал себя счастливым, смешливым, несмотря на частые детские болезни. Перепадами настроения я не страдал, пребывал в ровной эйфории, даже когда месяцами держалась у меня высокая температура. В те годы, глядя на градусник, согретый моим телом, я почти всегда убеждался, что ртутная дорожка обрывается на цифре тридцать семь и семь. Эта цифра стала для меня более обыденной и привычной, чем стандартная цифра тридцать шесть и шесть. Но я не унывал. Постоянно млел от счастливого хохота. И только ночью (особенно когда оставался я в одиночестве) навещали меня страхи.
Что жило там, кроме нас, в этой простой брежневской квартирке? Не знаю. Подозреваю, не знают об этом и умершие. Вряд ли в тех странах, где обитают они, знают всё. Всё даже само себя не знает.
Может быть, это был зловещий дух подспудного и нарастающего разлада? Мои мама и папа собирались вскорости развестись, но я ведать не ведал об этих делах. Они часто казались мне беспредельно счастливыми. Мама входила в квартиру с ярко-желтым лимоном в руке. Она улыбалась, глаза ее сияли, лицо излучало небесную красоту. На ней было зеленое замшевое пальто, приталенное, длинное, до самого пола. Всегда я обожал бархатистые фактуры: замшу, бархат, плюш, вельвет. Я мог часами сжимать в ладони маленький томик стихов Генриха Гейне, переплетенный в рыжую замшу. Я не умел прочитать эту книгу, к тому же томик был немецкий, да еще и отпечатанный готическим шрифтом, но неведомые мне стихи и поэмы впечатлительного Генриха уже тогда впитывались в мою детскую ладонь сквозь рыжую потертую замшу. Мама улыбалась, лицо ее сияло. Папа рисовал и тоже улыбался. И его лицо сияло. Они обнимались, смеялись. Мама перебирала пальцами папины волосы. Они рассказывали друг другу что-то смешное, нечто поразительно захватывающее. Они опять смеялись, восхищались какими-то неведомыми мне обстоятельствами. Но уже через полчаса могла вспыхнуть между ними тяжелая и необъяснимая ссора. Не удавалось отыскать, обнаружить, вычислить внятные причины этих абсурдистских, затяжных, мучительных препирательств, этих горьких обид, этих мнительных взаимных упреков. Мама уходила в свою комнату в слезах. Или уходила гулять, чтобы воздух городских окраин смог развеять ее печаль. Иногда она брала меня с собой бродить по оврагам. Овраги, казавшиеся мне огромными, начинались сразу за нашим домом и тянулись до мутного горизонта. Мы брели, опечаленные, и слезы наши капали на зеленую замшу. На зеленую замшу маминого пальто, на зеленую замшу моей куртки, воспроизводящей одеяние маленького тирольского охотника. Мы слонялись по буеракам, облаченные в зеленую замшу, как плаксивые стрелки Робин Гуда. По дороге мы покупали большой белый хлеб и выщипывали его ароматное тело. Постепенно овраги, хлеба, небесные облака, пробегающие мимо собаки – все это исцеляло нас, возвращая свойственную нам беспечность. Мы забывали о наших страхах, о нашей тоске, о нашем непонимании житейских правил и вскоре снова смеялись, рассказывая друг другу аппетитные и нелепые сказки.
В один из оврагов заползала тупиковая ветка технической железной дороги, и там всегда стоял заброшенный поезд – длинный состав, забытый всеми: ржавый, с выбитыми вагонными окнами. Мы забирались на покатые крыши вагонов и шли по ним, перепрыгивая с вагона на вагон.
Я написал, что не страдал в детстве перепадами настроения. Действительно, не страдал. Но мои родители ими страдали. То они были спокойны, как Будда, то веселы и насмешливы, словно арлекины, то печальны, как отягощенный меланхолией Пьеро. То светились они неземной добротой, то становились раздражительны и угрюмы, как Скрудж. Я не мог объяснить себе эти перепады, эти противоречивые свойства возлюбленных существ. Оттого зародилось в моей шестилетней голове параноидальное подозрение, что несколько различных душ обитают в их телах. Я даже пытался подловить их посредством окольных расспросов о мелких обстоятельствах вчерашнего дня. Мне казалось: сегодня в этом теле бодрствует одна из душ, но вчера она спала, уступив место другой душе. И, возможно, сегодняшняя душа не помнит о том, что ощущала душа вчерашняя.
Эти подозрения породили серию кошмаров, в которых мои родители превращались в группы одинаковых персонажей. Я видел несколько мам и несколько пап одновременно. Папы почти не отличались внешне друг от друга, разве что ростом и повадками. Кто-то был повыше, кто-то пониже. То же самое происходило и с мамами. Я пытался опознать в этих группах настоящих, подлинных, неподдельных родителей. Но в сновидениях эти попытки терпели крах. Если же мне все же удавалось обнаружить подлинных родителей в толпе их подобий, то это обнаружение отнимало так много сил, что просыпался я изможденным, как бы даже истерзанным. Надо ли говорить, что я боялся этих снов? Анализируя сновидения с вышеописанным сюжетом, я прихожу к неизбежному выводу, что содержание этих кошмаров напрямую связано с двумя значениями слова «размножение». Размножение как копирование (в этом смысле говорят «размножить документ») и размножение как рождение детей. Когда я говорю о своем страхе перед сновидениями этого типа, я подразумеваю, что меня пугало размножение моих родителей, то есть пугала возможность обнаружить их спрятанными, скрывшимися среди своих подобий. Но при этом я сам являлся единственным следствием размножения своих родителей (в другом смысле этого слова), я был их единственным ребенком, и значит, ужас, вызываемый этими снами, следует рассматривать как ужас перед фактом собственного существования, страх перед неотменяемостью моего рождения. Такого рода страх представляет собой как бы схватку, нечто вроде судорожного эффекта, который предшествует «второму рождению». Это «второе рождение» означает окончание так называемого дошкольного детства. Иначе говоря, в возрасте семи лет человек рождается во второй раз. И начинается второе детство – самое сладостное и самое таинственное. Точнее, столь же сладостное и таинственное, как и первое, третье, четвертое, пятое, восьмое, двенадцатое – и далее анфилада детств и отрочеств уводит нас за пределы земного существования, но и за этими пределами…