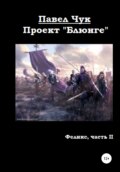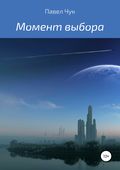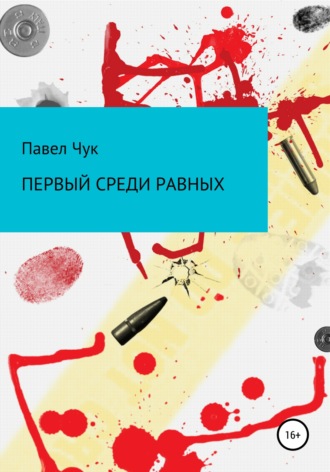
Павел Чук
Первый среди равных
Доанна сомневалась, что делать с кровной родственницей царствующего Императора и ей предстоял тяжёлый выбор: или отослать возможную претендентку на трон как можно дальше из столицы, ограничить её общение с придворными, фактически выслать в ссылку; или… отправить вслед за отцом. Второй вариант развития событий казался менее предпочтительным, но на что не пойдёшь ради себя и своих детей.
Во время совместного завтрака Доанна хотела понять: опасаться ей Линессы или она примет почётную ссылку, уйдёт в тень, выйдет замуж за нужного человека и полностью исчезнет с политической арены Империи, оставив императорский трон новой династии, основателем которой станет не Император, а Императрица.
Завтрак продолжался в молчании. Этикет не позволял до последней смены блюд начинать разговор из-за чего официальные обеды длились очень долго. Бывало, при смене из двенадцати блюд, под конец приёма приглашённые и не помнили, зачем собрались вместе.
Эну Доанна вела себя непринуждённо, изредка бросая взгляд на Линессу. Слуги производили смену блюд, меняли приборы, а Линесса, словно не замечала, что завтрак затянулся на два часа. От каждого предложенного блюда она откусывала кусочек и терпеливо ждала следующей смены, не выказывая ни раздражения, ни недовольства затянувшимся процессом.
В очередной раз слуги поменяли приборы, выставив на стол лёгкий десерт и, перед каждой особой, поставили большой заварно́й чайник, и удалились.
– Спасибо, что составили компанию, эну Линесса, – нарушила молчание эну Доанна, – с болезнью супруга на меня навалилось много забот и проблем, с которыми справится только Император.
– Рада, что моё присутствие помогает вам находить силы для служения Империи, – ответила эну Линесса, но тут же спохватилась. Слишком пафосно звучал её ответ. – Как здоровье Императора? Мне рассказали, что Странис Первый скоро пойдёт на поправку.
– Вы правы, эну Линесса. Придворные лекари делают всё возможное, борясь с болезнью Императора. Они и мне обещают скорое выздоровление супруга. Я хотела спросить, что подарить на ваше совершеннолетие? Конечно, до него осталось ещё довольно много времени, но двадцать один год бывает только один раз в жизни и мой, наш с супругом подарок должен соответствовать такому праздничному дню.
– Я не думала об этом, эну Доанна. Но в этом году мне так и не удалось отбыть в загородную резиденцию, где я обычно проводила время, читая книги. Если можно, я бы хотела получить в подарок библиотеку, хранящуюся там.
– Библиотеку? – неподдельно удивилась эну Доанна. Вот чего, а просьбу: подарок «библиотеку», она услышать не ожидала. Предполагала, что эну Линесса пожелает титул, землю, покинуть Империю с визитами по дружественным странам для заведения знакомств с возможным супругом, но… «библиотеку».
Выдержав томительную паузу эну Доанна ответила:
– Думаю, ваше желание исполнимо, эну Линесса. Как только супруг пойдёт на поправку, я изложу вашу просьбу.
– Благодарю, эну Доанна. Вы очень добры.
– Что ж, эну Линесса. Я довольна совместным завтраком. Надеюсь, наши разногласия остались в прошлом. Вижу, что за эти дни вы изменились, повзрослели, так скажем. Кстати, совсем недавно пришло письмо от короля Ми́роса. Он неожиданно овдовел и, утешив горе в трауре, подыскивает королеву. Конечно королевство маленькое, не сравнить с Империей, но обратите на него внимание. Он не стар, говорят, что умён и чуть ли не спит в обнимку с книгами. Сам занимается какими-то изысканиями. Я прикажу передать вам письмо и его портрет.
– Благодарю, эну Доанна. Я обдумаю ваше предложение. И вправду, необходимо не упустить свой шанс и подобрать достойного мужа, а следуя вашим мудрым советам, мне будет легче не совершить опрометчивых поступков, о которых потом жалеть всю жизнь, – ответила, вставая вслед за эну Доанной, эну Линесса. Завтрак закончился, и разговор подошёл к концу, о чём первой поднявшись, дала понять супруга Императора…
Эну Доанна долго смотрела на закрывшуюся за молодой особой дверь, пока из раздумий не вывел знакомый голос:
– Как поговорили? Ты придумала, как с ней поступить?
– Придумала, Симиони. Как Император? Скоро ему станет лучше? А то советники в любой момент могут передумать.
– Скоро. И не беспокойся, они не успеют передумать.
Глава 15
С прибытием в станицу Прочноокскую гарнизона, под командованием полковника Мигнеса, дни потянулись размеренно и однообразно. Противник отступил, и преследовать его не стали. Всё-таки погода вносит свои особенности в военное дело. Зарядившие на пару дней дожди привели дороги в полную негодность. Местные старожилы говорили, что не припомнят случая, когда так рано началась осенняя распутица, а впереди ещё зима, а на юге Империи она сводится к сильному ветру и дождям. Всё-таки климат отличается от центральной части, но на подводах, а тем более пешим маршем проходить расстояния, которые механизированная армия преодолевает за какие-нибудь пять часов, становилось невыполнимой задачей.
В командовании гарнизона всё более утверждался план: если противник не предпримет никаких активных действий и не поступит приказа сменить дислокацию, то гарнизон в полном составе останется на зимних квартирах именно в станице Прочноокской. В пользу такого решения говорило местоположение станицы: слева и справа – непроходимые леса, болота. Оставшаяся единственная дорога проходила через станицу и вела дальше вглубь южных территорий Империи. Именно её и планировал охранять расположившийся на зимних квартирах гарнизон.
Благодаря удачному расположению организовать обеспечение расквартированных солдат продовольствием, зимним обмундированием, планировали своими силами со складов Сантории, что значительно упрощало снабжение и нелёгкую работу тыловых служб…
После короткого разговора с полковником, Валео вручили наградное оружие: длинный прямой клинок с гравировкой, похожий на укороченный до двадцати сантиметров меч и присвоили чин «лейб-сержант», назначив командиром отделения. Отказываться от подарка, а тем более от повышения Валео не стал.
«Наградили оружием, присвоили чин – хорошо. К ордену представили, совсем отлично! Теперь уж точно вопросов не возникнет, откуда я такой-растакой взялся. Только почему-то в какой-то неправильный мир я попал. Сколько читал, сколько фильмов смотрел про попаданцев, но… где магия?! Где супер умения и супер возможности?! Обычное средневековье, ни тебе проявлений боевой магии, ни лечебной. Сколько раз присматривался к работе местных лекарей, так ничего необычного не заметил. Снадобья, отвары, примочки, микстуры. Тут даже о растворе бриллиантового зелёного не знают! Хотя о способах перегонки, о спирте и его обеззараживающем свойстве осведомлены и активно используют. Одним словом – средневековье», – думал Валео всю следующую неделю, приступив к обязанностям командира отделения.
После памятного боя в рядах гвардии осталось едва половина состава, а пополнения, а тем более, отправлять гвардейскую роту в тыл для переформирования, никто не собирался. Каких трудов, едва вставшему на ноги капитану Нетрису, стоило убедить полковника пополнить ряды гвардии из числа солдат гарнизона, знает только он. Но с началом новой недели, Валео поручили отобрать двадцать солдат для пополнения и без того скудного числа гвардейцев. Солдаты, видя, как после одного боя в строю гвардии остались единицы не желали менять устоявшийся уклад и, во время организованного Валентином отбора, специально показывали результаты, как по стрельбе, так и по физической подготовке, явно ниже своих возможностей.
– Господин лейтенант, разрешите? – закончив очередной этап отбора, Валео подошёл к офицеру.
– Говори, лейб-сержант. Вижу, твои старания проходят даром. За пять дней всего трое изъявили желание вступить в гвардию.
– Вы правы, именно об этом я и хотел с вами поговорить. Эти трое, точнее двое из них, как раз те два брата: Сентр и Вентр, проходившие испытание вместе со мной. Третий – их знакомец. Остальные… – тут Валео запнулся, размышляя, стоит ли говорить, что не желают солдаты идти в гвардию. Опытным взглядом он замечал, как во время прохождения испытаний, рекомендованные непосредственными командирами солдаты, промахивались, падали, оставались лежать, симулируя травмы.
– Что остальные?
– Остальные… подготовка хромает, – выпалил Валентин, но тут же продолжил, – господин офицер, как заметил, для прохождения испытаний командиры направляют или совсем молодых, или пожилых вояк, а тех, кто хоть как-то показал себя в бою, не желают отдавать в другое подразделение. Если возможно, киньте клич, что идёт набор в гвардию.
– Думаешь, этого не делали? Сколько раз объявляли по гарнизону набор в гвардейскую роту, но всё безрезультатно. Только из новобранцев и набираем пополнение, хотя и жалование в гвардии выше, и питание, но боятся. Кто хочет рисковать каждый бой своей жизнью? Гвардия она на то и гвардия, что выполняет самые трудные и важные приказы… – офицер распалялся, словно произносил речь перед строем новобранцев.
«Вот тебе и отличия, – думал Валентин. У нас, считай все поголовно, хотят служить или в ВДВ, или в морской пехоте, или, по крайней мере, как минимум в спецназе. А тут… Плотный строй: первая шеренга, вторая, третья. Если повезёт, то останешься жив. И зачем заниматься личной подготовкой, метко стрелять, тренировать выносливость? Стоя в плотном строю, паля не в цель, а по направлению, хоть кто-то, но попадёт в противника. Понятно, точность и дальность стрельбы оружия оставляет желать лучшего. Чтобы с пары сотен шагов попасть в мишень надо очень и очень постараться. Но с другой стороны, в этом мире подтверждается вывод одного из американских генералов, что девяносто восемь процентов призванных в армию не способны убивать11. М-да. И как найти эти два процента, способных решать судьбу боя?».
– Всё, лейб-сержант, иди! Исполняй приказ, – отрезвил прозвучавший над ухом приказ офицера и Валео, в раздумьях, вернулся на импровизированную спортивную площадку.
«Что такого придумать, чтобы если не каждый, то хотя бы десятая часть личного состава возжелала служить именно в гвардии? – думал Валео, смотря, как готовится очередная группа к прохождению испытаний. – Улучшенный паёк и повышенное жалование не прельщают к совершению подвигов. Тогда будем исходить от противного: кто служит в армии? Понятно, что в основном крестьяне, мелкие торговцы, а среди офицеров… Хотя, зачем их брать в расчёт. У них свои соображения – получить титул, землю, может ещё что, а основная масса – крестьяне. Что для них самое важное? Вряд ли у кого из них есть своя семья, если только братья, сёстры, родители. Не думаю, что благодарственное письмо на родину или награда воодушевит на подвиги. Что ещё можно придумать?..».
– Господин лейб-сержант, разрешите спросить, – к Валентину подошёл третий, вместе с братьями зачисленный в гвардию. Его имя Валентин пока не запомнил.
– Если вопросы по размещению, то тебе к лейб-старшине. Я не знаю, в какое подразделение тебя зачислят.
– Благодарю, уже разместился. Я по другому вопросу: хотел спросить, когда оказия в Санторию пойдёт, мне бы посылку передать.
– Посылку? – мысли Валентина лихорадочно заработали, но так и не могли ухватить витавшее в воздухе единственно верное решение.
– Так точно! – широко улыбаясь, ответил новоиспечённый гвардеец, – у меня родня по соседству с Санторией обитает, хотел передать им часть жалования.
– По поводу жалования не беспокойся. Можешь пойти к штатному писарю, и он оформит регулярные отчисления.
Тут гвардеец смутился и нехотя добавил:
– Мне братья сказали, что можно посылку передать. Я чуть-чуть сахар сэкономил, пяток иголок смастерил и ещё мелочь всякая, которая в деревне пригодится.
«Эврика!» – чуть не воскликнул Валентин, найдя нужную струнку, на которой можно сыграть, привлекая бойцов в ряды гвардии.
В абсолютном большинстве среди рядовых – деревенские, а что в деревне ценится, кроме работящих рук? Всякая мелочь: как нитки, иголки, хороший нож и всякие полезные вещи, которые можно если не получить на службе, так добыть в бою в качестве трофеев. А если позволить официально гвардейцам отправлять, хотя бы раз в месяц, добытые трофеи домой, то от желающих служить именно в гвардии отбоя не будет.
Помнится и в годы Великой Отечественной войны практиковались посылки домой. Слали разное, конечно, существовали ограничения и по весу, и по количеству посылок в месяц, не говоря о том, что можно было отсылать домой, а что нет, но какой стимул был у бойцов воевать в первых рядах и добывать трофеи. Главное, тут палку не перегнуть.
– Хорошо, готовь посылку. Я согласую вопрос и, думаю, разрешат, – решительно ответил Валентин, выстраивая в голове аргументы для предстоящего разговора с офицером.
Через голову непосредственного командира Валентин прыгать не стал, а обратился к лейтенанту. Тот, к его удивлению, не выслушав, отправил напрямую к капитану Нетрису.
– …говоришь, разрешить посылки отправлять домой? – хмурился капитан, так и не понимая суть предложения. Разговор заходил в тупик. Офицер не понимал, зачем какие-то посылки, если величайшим повелением самого Императора позволено служивым людям, отправлять жалование. Пришлось долго и упорно объяснять, что не только в жаловании дело. Для деревенских, кстати, в основном неграмотных, отправить домой письмо с рассказами о героических подвигах, подкреплённых боевыми трофеями, являлось великолепным доказательством того, что их земляк жив, воюет, не срамя родню, да и в прибыли остаётся, а что отправляют жалование, так и после смерти солдата родственникам полагался небольшой пенсион. И не определить, это сам солдат по своей воле расстаётся с честно заслуженным жалованием или это является заботой Империи.
– Хорошо. Уговорил. Отдам приказ ординарцу. Пусть составляет письма… хотя, нет. У него итак много забот. Этим займутся командиры взводов.
Решение капитана рядовые гвардейцы восприняли воодушевлённо, но младшие офицеры настороженно. Всякая новая работа, а тем более спущенная сверху, создаёт больше проблем, внося суматоху в размеренный ритм военной жизни. Теперь оставалось дело за малым, чтобы эта весть разнеслась по гарнизону не с официальным приказом, а тихо, шёпотом, передаваясь из уст в уста, с каждым разом обрастая новыми подробностями и невероятными измышлениями, а уж факты не заставили себя долго ждать…
Полученный приказ о проведении разведки дороги, по которой ушли войска противника, поставил в тупик Валентина. Сколько времени прошло? Неделя? Две? Что нужно разведывать? Тут и дожди зарядили, но приказы не обсуждаются. К выходу готовились не долго. Днём поступил приказ, а вечером, перед заходом солнца, кстати, Валентин так и не удосужился понять, как называют местное светило и для себя продолжал именовать его «солнцем». В языке аборигенов понятия «светило», как «солнце» не существовало. Его именовали просто: «яркая звезда». Изредка Валентин задумывался, откуда у аборигенов такие познания в астрономии, если поняли, что действительно это звезда, только самая близкая и соответственно самая яркая на небосклоне…
Валентин шёл в ядре группы, обдумывая, правильно ли поступил, взяв в первый боевой выход новобранцев и ничего удивительного в том, что они поступили в его распоряжение, не было.
Два брата: Сентр и Вентр сами напросились к Валентину в подчинение, а когда их просьбу удовлетворили, оба оказались несказанно рады. Ох, и наслушался Валентин рассказов от разговорчивых братьев и, что плохо кормят, и все дни только и знай, что ходи по плацу, и много чего иного интересного рассказали словоохотливые братья. Их, оказывается, сразу определили в шеренгу первого строя, что было, скажем мягко, не совсем обычное дело. В первую шеренгу обычно ставили или провинившихся, чтобы те не струсили и не убежали, сломав строй, или самых стойких. Но ни к тем, ни к другим причислить братьев не поднималась рука. Без боевого опыта, оба жизнерадостные, улыбчивые. Всё время подшучивали друг над другом, но что заметил Валентин, к службе относились добросовестно. Большое впечатление произвело на него, что после злополучного неудачного падения братья отказались расставаться. К счастью, травма оказалась несерьёзной, и Вентр через пару дней вернулся строй. Их просьбы снова пройти испытание и попасть в гвардию, игнорировались, но когда по гарнизону прозвучал приказ о наборе, они настояли на своём и с блеском прошли испытание, и добились своего – стали гвардейцами.
Тяга братьев к службе оказалась прозаична. Закончив служить, их дед поселился в непримечательном селении Занинса. Обзавёлся семьёй, у него родился сын, а через годы родились внуки близнецы. Долгими зимними ночами, когда работы на земле нет, они любили слушать его рассказы. Неудивительно, что детская фантазия рисовала его героем, и братья хотели стать похожими на деда, а братское соперничество подстёгивало их стремление…
Авангард пода́л условный сигнал остановиться. Падать в непролазную грязь никто не стал, но затаились, слившись с наступившей темнотой. Выждав несколько минут, Валентин выдвинулся вперёд, узнать причину сигнала тревоги.
– Командир, слышите, дымом тянет, – доложил гвардеец.
Валентин принюхался и с трудом различил едва слышимый запах горенья.
– Кашу готовят, – продолжал гвардеец, – лук подгорел, вот и вонь стоит.
Валентин вновь вдохнул, но ничего нового не услышал.
«Ну и нюх у него!» – подумал Валентин и сориентировался, откуда тянет ветер. Внимательнее всмотрелся в гущу леса. Ни проблеска, ни мерцания огня – кромешная тьма и тихо. Слышно, как трутся друг о друга верхушки деревьев.
– Не ошибся?
– Обижаете, командир. Я до поступления на службу с десяти лет поварёнком бегал. Что-что, а научили где по запаху, где на глаз определять готово блюдо или нет. А тут… усы в залог ставлю! Что готовят на костре, в большом чане, но вместо того, чтобы дождаться, пока каша дойдёт до половины готовности, сразу добавили лук, вот он и пригорел. Открытый огонь дело такое, за ним следить надо. Температуру поддерживать, не давать слишком разгораться, не давать затухать, а ещё посуда…
– Стоп! Потом расскажешь, – остановил Валентин гвардейца. – Может из села запах учуял?
– До села часа четыре идти. В лесу готовят.
«Охотники? – закралась мысль. – Но надо проверить. Как раз расспросим, что делается в округе».
– Идём тихо. Когда заметим кашеваров, не раскрываем себя. Сначала посмотрим, послушаем, кто это, – инструктировал гвардейцев, готовя к прочёсыванию леса.
С направлением движения определились быстро. Тот же нюхач с запоминающим именем Занар с уверенностью указал направление, куда необходимо идти. Выстроились в шеренгу на расстоянии видимости и не торопясь пошли. Сотни через две шагов замелькал тусклый отблеск костра, и запах приготовленной пищи стал очевидным. Пройдя метров пятьдесят, обнаружилась небольшая поляна.
– Что-то на охотников не похоже, – шёпотом произнёс Занар, – костёр развели в яме. Шалаш. Вон, слева у дерева. Сразу не приметишь, если не знаешь, что искать. И народа для охотников слишком много. Обычно ходят парами, изредка тройками. Огонь разводят по-другому, чтобы ночью зверей отпугивать, а тут, наоборот, стараются остаться незамеченными.
«Враг? Но, как? Кто? Отстали, заблудились? И ходят по лесу ища дорогу к своим, стараясь никому на глаза не попадаться? Сколько их? Судя по котелку, готовят человек на десять или двенадцать, не меньше», – размышлял Валентин, вглядываясь в слабо освещённую поляну, как слева невдалеке прозвучал истошный вскрик, и ожили тени на поляне.
Глава 16
Ночной бой страшен своей непредсказуемостью. Преимущество у тех, кто в засаде или раньше обнаружил противника. Но этот бой переписал каноны ведения войны. Прозвучавший в лесу вскрик спустил натянутую в напряжении тетиву, став приказом к действию… Яростный бросок навстречу друг другу и: «Кто говорит, что на войне не страшно, Тот ничего не знает о войне12»… столкновение. Образы, тенями, мелькали в отблеске слабо освещавшего поле боя костра. С разных сторон слышалось скрежетание металла о металл, всхлипы и… рычание. Перед лицом опасности Человек становится зверем. В нём просыпаются инстинкты, о которых матушка природа позаботилась, упрятав их в глубину сознания. Но когда стоит выбор: умереть или жить, убив, то спрятанные инстинкты вырываются наружу и человек с остервенением начинает хвататься за жизнь. На войне нет правил, нет канонов, есть только одна цель – победить.
Рывок… и от противника отделяет пара шагов. Поднимающаяся с оружием рука неприятеля наводится на Валентина, но он успевает ударом клинка отвести длинный мушкет в сторону. Выстрела не последовало. Не дожидаясь, Валентин, с молниеносной быстротой, контратаковал, целясь в шею. Клинок лязгнул металлом о металл.
«Нагрудная пластина», – промелькнуло в голове. Выпад, выпад, удар, ещё удар и тело противника заваливается вперёд. На периферии зрения возникает силуэт. Разворот, удар наотмашь. Клинок со свистом рассекает воздух. Костлявые пальцы сжимают горло. Оба падают. Тошнотворный запах немытого тела ударяет по органам обоняния. В немом крике открывается рот. Не хватает воздуха. Цепкие пальцы удерживают горло, давя, сжимая… ещё чуть-чуть, и сознание откажется бороться, погрузившись в небытие. Гулкий удар и темнота накрывает…
– Командир, живой?!
Сил нет ответить. До судорог болит шея. С трудом отвечаю: «Живой», но вместо знакомого голоса слышу только хрип.
– Не бои́сь, пару минут и оклемаешься.
Оглядываюсь, вокруг тела́. Я лежу возле неимоверно воняющего трупа. В отблеске костра замечаю тёмное пятно на голове. Вокруг суета. Кто-то стонет, кто-то, с остервенением, продолжает бить чем-то зажатым в руке по распластавшемуся на земле ставшему бесформенным трупу.
Поднимаюсь на шатающихся ногах, останавливаю, впавшего в боевое безумие гвардейца: «Хватит, он мёртв. Проверь, кто уцелел», а сам снова сажусь на землю.
Вот тебе и подготовка гвардейцев. Чему нас учили, к чему готовили? А столкнулись в реальном бою с противником, чуть все и не погибли. И не из-за того, что не хватает физической подготовки, не из-за того, что плохо умеем обращаться с оружием, а тогда из-за чего? Нас было десять. Тел противников насчитали двенадцать, но трое из них видимо были или ранены, или слишком слабы, что достойного сопротивления не оказали. Силы были примерно равны, но мы чудом их одолели. Из гвардейцев стоять на ногах осталось четверо, один тяжело ранен, один легко и четверо больше никогда не увидят восхода.
Начинало светать.
«Надо возвращаться. Пусть задача не выполнена, но о том, что по тылам, группами, ходят противник, надо доложить», – размышлял, оглядывая поле боя.
– Командир, что с телами делать?
– Осмотреть на предмет ценного и прикопать. Мы не звери. Они солдаты и не хорошо оставлять их тела на поругание зверям.
Я не знал, что сказанное произведёт сильное впечатление на моих подчинённых. Они, как привыкли? Я живой и хорошо, а честь пусть блюдут офицеры, если им так хочется.
– Ещё, – продолжал давать указания, – соберите все вещи, что могут пригодиться, разделим в гарнизоне. Бумаги или обнаружите какие записки, давайте мне. Я их посмотрю.
Сбор трофеев затянулся до полудня. Солнце давно перевалило зенит, а мы до сих пор оставались на месте, залечивая раны. Успели перекусить. К счастью, Занар оказался в числе легкораненых и приготовил знатный обед из того, что нашли в вещах поверженных противников. Ели молча, каждый размышлял о своём, а я не мог отделаться от мысли, что нам повезло. Очень сильно повезло, что услышали вскрик погибшего храброй смертью гвардейца. Я даже имени его не запомнил, но его смерть дала нам шанс выжить. Если бы не он, то ночной бой мог оказаться не битвой равных, а избиением. Стоило им только ещё двоих, троих незаметно лишить жизни и нас бы ничего не спасло.
– Не простые солдаты нам попались, – вдруг озвучил мои мысли один из братьев. Вот чего-чего, но от Вентра я не ожидал услышать логичных рассуждений, – слишком добротная у них одежда и не такая, как для боя в строю. Голенище сапога низкое, не такое как видел. Кафтан или сюртук, как они называют свою одёжу, я не знаю, но подол отсутствует, словно отрезан, ходить не мешает. Заметили, что на груди у каждого какая-то пластина из воронёного металла? На солнце не бликанёт, и шею защитит от удара. Куда при стрельбе в первую очередь учат целиться? Как раз на уровень головы. Если расстояние большое, то пуля как раз в грудь и попадёт.
– Может это кто-то из тех, кто напал на наш отряд? – предположил Занар.
– Возможно. Но что они так далеко делают от своего лагеря. Жаль, что никого в живых не удалось захватить.
– Не до этого было, командир. Когда будем возвращаться назад? Не хочется вновь ночью ходить по лесу.
Предложение Занара выглядело разумным, но задача не выполнена. Думаю, никто не осудит за невыполнение приказа, но возвращаться с пустыми руками не хотелось. Тем более, немного отдохнули, набрались сил.
Валео медленно перебирал сданные ему найденные листочки. Среди всех только он умел читать, а с учётом того, что знания местных языков усвоились при обучении от инопланетного устройства, то ему не составляло труда читать написанное на любом языке. Но ничего стоящего в записках не обнаружилось только неотправленные письма домой, какие-то записи, вроде долговых расписок и всё.
– Нет. Назад не пойдём. Оставим здесь двоих с ранеными, а сами в посёлок. Сколько говоришь до него? Часа четыре идти? Как раз к утру вернёмся назад, а там и обратно, в Прочноокск. Со мной пойдут Сентр и Вентр. Приготовьте волокуши и если до следующего рассвета не вернёмся, возвращайтесь той же дорогой, как шли сюда. Если опоздаем, то постараемся догнать.
Приказ бойцы восприняли неоднозначно. Оставшийся вместе с тяжело раненным Занар наотрез отказывался подчиняться. Пришлось на него наорать, пригрозив наказанием. Трибунала в этом мире не было. В основном обходились телесными наказаниями – битьё шомполом от мушкетов. Страшная вещь, скажу. Пришлось раз видеть такое наказание. Офицер зачитывал провинность, за которую последует наказание. Солдата раздевали по пояс и укладывали на широкую до́ску. Самое удивительное, что в роли исполнителя «приговора» выступал, не солдат, а офицер из другого взвода. Сам шомпол вымачивался в каком-то растворе, предполагаю с повышенным содержанием соли, для нанесения более неприятных ран. Хотя, о каких «приятных» или «неприятных» ощущениях можно говорить, если по обнажённой спине, со всей силой, бьют тонким металлическим прутом. Наказание походило на порку розгами, но отличалось своей жестокостью. Сторожили говорили, что был один, кто выдержал двадцать три удара, но обычно теряли сознание на пятом. Я знал, что в гвардии такое наказание не практиковалось и угрозы мои о телесном наказании воспримут не в серьёз, но другого аргумента не нашёл.
Идти по размытой от сильных дождей дороге оказалось трудно. Временами выглядело, что идём где-нибудь в средней полосе России. Такая же грязь, отсутствие внешних признаков цивилизации. Только электрические столбы не попадались на глаза, а так, всё одинаково: непролазная грязь, леса и местами плохо ухоженные поля. Думал, куда я забрёл, куда закинула судьбинушка?! И самое главное, куда делся этот инопланетянин, как там его… Мегис, вроде. Неужели с такой мощью, продвинутой технологией ничего не смог противопоставить пиратам. Подсознание вопило, что произошла трагедия и обо мне забыли, или некому больше сообщить, что такой вот Валентин, уроженец планеты Земля, затерялся где-то в необъятных просторах Космоса. Но не с нашим уровнем развития судить о других цивилизациях. Только представьте, что было, если б не Колумб приплыл в Америку, а местные аборигены добрались до Европы. Тогда б история пошла по другому вектору. И отговорки, что в Европе больше народа, протяжённый континент, блекнет с тем фактом, что, только подумайте… Цивилизация достигла такого уровня, что смогла пересечь океан и, чем бы мы их встретили? Подношениями? Замечу: до технической революции, паровых двигателей, строительства железной дороги, создания бездымного пороха оставались сотни лет. Взять Космос, Вселенную. Мы, пока никуда не лезем – никому не нужны. Страшилки по поводу природных ресурсов – ерунда! Просто вспомните шкалу Кардышева – цивилизация Земли на ней не достигла и первого уровня. А Цивилизации, достигшей второго уровня, всякие каменный уголь, нефть, кислород, атомная энергия, не нужны. Неизвестно, на каких принципах у них строится энергопотребление, но мы пока лучше двигателя внутреннего сгорания и электричества ничего не придумали…
– Командир Валео, о чём задумались? – из витания в облаках вывел голос одного из братьев.
– Да, так. Свои мысли. Прочитанную книгу вспомнил, – не подумав, взболтнул, но отступать уже было некуда.
– Книгу? У вас в селе были книги?! – к разговору присоединился Вентр.
– Ну, – искал оправдание неосторожно сказанному слову. Всё-таки надо думать, прежде что-то говоришь. Как-то рассказывал друг, что одного из нелегальных агентов раскрыли именно потому, что он в одном из разговоров упомянул, что читал книгу, никогда не издаваемую в Западном полушарии и завертелось… – к нам приезжал помощник хозяина и сказывал, как ему сам энц рассказывал о приключениях человека на необитаемом острове, вот я и запомнил.
– Ого? И как? Остался жить тот, кто на необитаемом острове оказался?
– Брат, а как ты думаешь, кто написал книгу? – ответил Сентр.
Разубеждать братьев не стал. Тем более, незаметно, но мы подошли к опушке леса, с которой открывался вид на расположившийся невдалеке посёлок. Для меня было непривычно, что селения располагались практически у кромки леса, но потом понял, что именно так и возводят поселения, отвоёвывая метр за метром у матушки природы необходимое для жизни пространство. Строят дома, расчищают под поля когда-то занятые лесом территории. Странно, но это село, как впрочем, и Прочноокс, не располагался на берегу реки, хотя передвигаться по водной глади, используя те же лодки, намного удобнее, чем месить непролазную грязь.
– Подождём вечера или сразу пойдём? – спросил неугомонный Вентр.
– Сначала осмотримся. Дождёмся вечера. Может, кто возвращаться один будет. Его и расспросим.
– Что ждать? Чай на своей земле?! Пустая деревня. Войск нет. Точно говорю. Просто посмотрите, что только в избах дым из трубы идёт. Открытых костров не видно. Столько народу не разместить по избам.
Логика в произнесённом Сентром имелась, но существовал один недостаток: наш гарнизон в полном составе также разместился в Прочнооксе. Понятно, что всем места под крышей не хватило, но еду готовили только в избах. Тем более, агрессору на местное население было наплевать. Они могли их всех отправить в мир иной, а сами расположиться в относительном комфорте. Но с другой стороны, где брать продовольствие?