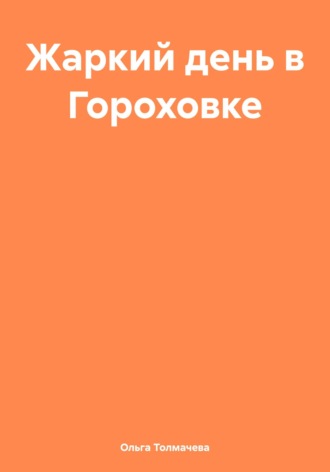
Ольга Толмачева
Жаркий день в Гороховке
Я, не раздумывая, сняла своё маленькое платье и осталась в трусиках. Присела на корточки. Забрала волосы на макушку, чтоб не испачкать.
Прасковья налила мне на пылающую спину белую тягучую жидкость и корявой ладонью принялась осторожно размазывать холод по лопаткам и шее. Сметана была приятной, мгновенно тушила жар солнца.
– О! – Я осторожно повела плечами. – О-оо! Не больно! – двинула сильнее. – Вы, Прасковья, волшебница!
Она засмеялась:
– Больно худенькая ты, девонька, будто не кормлена.
Я услышала в ее голосе сочувствие. Подняв голову, увидела, как пристально, жалостливо она меня разглядывает.
– Мои-то снохи посправней будут, помясистей. А ты… кожа да кости!
К нам в комнату заглянула Антонина. Я сидела в белых молочных ручьях на полу, скрючившись, склонив голову к коленям.
– Что, и мужик твой не протестует? – продолжила пытать хозяйка.
– В смысле?
– Против тощих боков? – Она больно ткнула пальцем.
– Нет, ему нравится – талия, – ответила я.
– Таа-алия! – Прасковья фыркнула. – Вот и моя сноха Настёна все на диетах сидит. Щеки, видите ли, ее не устраивают – больно сдобные! Она у нас как булка – румяная, ладная, – произнесла с гордостью. – Утром натрескается блинов с мёдом, а потом на диету. Аж до вечера.
Откинув голову, Прасковья весело рассмеялась, обнажив крепкий белозубый рот.
– Хорошая девка! Работящая! А это что же, – Она поддела резинку на моих трусиках, – мода что ли такая? Материи что ли сшить не достало? Правда, сказывают по радио, кризис.
Она совсем развеселилась и расхулиганилась. Подставив ладонь под ложку, чтобы сметана не капала на пол, понесла посуду к умывальнику.
– На-ка, прикройся, – кинула мне простыню. – А ты не обгорела? Давай и тебя намажу, – предложила Антонине.
– Нет, я в тени стояла. – Антонина прислонилась к печке. – Хороший у вас дом, Прасковья. Коля строил?
– А кто же – он. Сам и строил. Сыновья помогали. На все руки был мастер мой Колюшка. Как я теперь без него? – воскликнула вдруг хозяйка. – Год прошёл, а я все никак от горя не отойду. Проснусь ночью, руками вокруг шарю, а нет рядом моего Коленьки… Так в груди печет… – Она заплакала, как ребенок, не стесняясь слез.
Я почувствовала в горле ком. Посмотрела на Антонину – и у нее в глазах влага.
– А давайте помянем Колю! – предложила я.
Мы сели к столу.
– Хорошо вы жили? Не ругались? – спросила Антонина, закусывая огурцом.
– Как без этого? Всякое было, – Прасковья вздохнула. Последнее время закладывать стал Коля маленько. Я к водочке терпеливая, отношусь спокойно. Должно ж в жизни что-то приятное быть, окромя работы. К примеру, компания, угощение. Только он все в одиночку закладывал – не по нутру это мне было. Сосед наш, обычно, выпьет и отправляется спать до утра – на сеновал или на печку. Проспится, очухается и снова в их доме ладно, справно. А Колюша мой совсем другим был. Пропустит, бывало, рюмашку и рассуждать начнет – политикой увлекался. Правители ему, видите ли, не нравились, и губернатор. Очень расстраивался: и пенсия у стариков маленькая, и колхоз загибается. – Ой, – Прасковья вдруг испугалась. – Что же, вы и про это в газету напишете?
– Не напишем! – пообещала я, перейдя на шепот. – Это между нами…
– Между нами говоря, Коля меня порой и поколачивал, – Прасковья придвинулась близко ко мне и заговорщически посмотрела. – Раз или два было.
– Да ну… – не поверила я.
– Было. А так ничего жили, не жалуюсь. Счастливо. Всем бы так… А давайте споём! – вдруг предложила хозяйка, и ее глаза засияли. – Про вечер. Больно уж Коле эта песня по душе была. Слова знаешь? – спросила она Антонину.
Певица кивнула.
«Ой, то не вечер – то не вечер… Мне малым-мало спало-о-сь…», – заголосили бабы в два голоса. Пели-выли. Навзрыд, взахлест – словно от нестерпимой боли. Их сильные голоса дрожали и перекрывались, верхние ноты не слушались. От нахлынувших чувств они захлёбывались. Казалось, им не хватало воздуха. Каждая скулила о горьком своём – выстраданном и наболевшем. О личном, но об одном и том же. Песня освобождала от сердечного груза, выплёскивала скорбь и печаль по любимому человеку. Слезы катились из глаз – от тоски ли, от выпитой водки…
– Хорошо поешь ты, справно, – похвалила Прасковья Антонину и фартуком вытерла с лица влагу. – Мне понравилось.
От неожиданной похвалы Антонина ярко зарделась.
– Только в одном месте ты сфальшивила.
– Не может быть! – возмутилась гостья.
– Я слыхала. У меня ухо острое! – стояла на своем хозяйка.
– Эту песню я, знаешь, сколько раз пела! – воскликнула Антонина.
От моего сурового взгляда певица остыла.
– А это что такое? – Я поспешила перевести разговор в другом направлении. Показала в фотоальбоме пожелтевшие от времени газетные вырезки. – Какие-то заметки…
– Это? Коля собирал. Очень ему хор Пятницкого нравился. Он искал а газетах статью или фото. Оттуда я эту песню про вечер услышала. Хорошо поют, красиво.
– Любил муж народные песни?
Листая, я увидела в газете фотографию юной Антонины в русском кокошнике.
– Очень любил. В Москву специально ездили, чтобы на концерте побывать.
– Когда? – встрепенулась Антонина. – В каком году?
– Не помню уж год-то. Давно дело было. Славик наш школу окончил – это значит… – Прасковья прикидывала в уме. – А по правде сказать, сдаётся мне, что неспроста он все эти вырезки в альбом складывал. – Она сделала паузу и выразительно на нас посмотрела. В ее глазах плясали веселые огоньки. – Его знакомая в хоре пела.
– Да ну? И кто же? – деланно удивившись, вскрикнула я.
– Рассказывал мне как-то по пьяни. Любил, говорил, а она в Москву укатила.
– Не ревновали? – спросила я и осторожно посмотрела на Антонину.
Бледная, притихшая, певица сидела, как мышка, стараясь не выдать себя, превратившись в слух.
– А что ревновать-то? К телевизору? – Прасковья прыснула в кулак.
Мы засмеялись.
– А мне-то что, жалко ли? Мне хорошо! Колюня концерт посмотрит, расчувствуется. Ко мне на перину взбирается – пылкий, жаркий, до меня охочий. Плохо ли? И ему хорошо, и мне польза. – Она озорно засмеялась. – Коля у меня огненный был.
От воспоминаний Прасковья раскраснелась.
– На него в нашей деревне бабы охотились. К Люське из города как-то сестра приезжала. – Хозяйка захмелела и стала еще разговорчивей. – Злодейка на моего мужика глаз положила. Проходу Колюне не давала, бесстыдница, глаза мозолила. А он бригадиром в колхозе, ему то в поле надобно наведаться, то на ферму – везде мужик на виду. А беспутница всюду за ним шастала! Стыдоба, бабоньки… – Прасковья сокрушённо покачала головой.
– И что? – спросила я нетерпеливо, требуя продолжения.
– С Люськой поговорила… И с сестрой её … – Она показала нам кулак. – Я тоже женщина горячая… Представляете?
Мы представили и захохотали.
До вечера просидели мы в гостях у Прасковьи. Она все говорила и говорила – то смеясь, то плача – о себе, о Коле. Как вставали рано, на самой заре, и отправлялись работать в поле, как собирали деньги для дома и бани. Растили сыновей, а потом провожали их в армию. А потом не находили себе места от страха за старшего сына, потому как служить он в Чечню угодил. Но, к счастью, все благополучно разрешилось.
А теперь их сыновья женаты. Жены у них городские, справные. Только вот, сокрушалась Прасковья, не больно-то снохи душевные. И сыновья, чудится ей, будто сторонятся, стесняются мать. Внуков на каникулы не отдают – все больше в лагерь детский. А какое в лагере может быть воспитание – кругом все казённое.
А в Гороховке раздолье, речка, земля.
Пчелиный улей она в огороде поставила – чтобы и мед был свой.
И прежде, и сейчас, на старости лет, нет ей покоя…
И сарай надобно укрепить – крыша совсем прохудилась…
А может, неплохо это, говорила она, – а хорошо, что нет ни дня передышки, и с болью каждая копейка даётся … Придет она с поля, очумелая от тяжёлой работы, упадёт до утра замертво. А иначе свихнулась бы она от тоски. Иначе все думки – про Колю…



