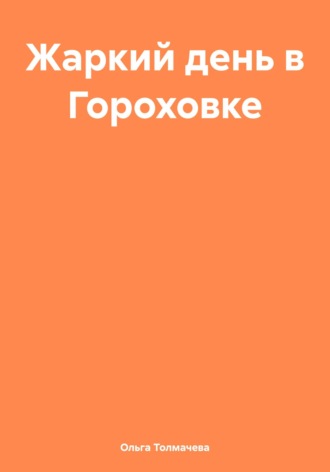
Ольга Толмачева
Жаркий день в Гороховке
– Я Прасковья, – Женщина проснулась.
Возникло замешательство. Мы с любопытством изучали друг друга.
– Разрешите представиться: к вам приехали по заданию редакции, – Я взяла инициативу в свои руки. – Пишем очерк про интересных людей нашего края.
Прасковья не сразу поняла, что я ей сказала.
– Вы жена Николая Журавлёва?
Я уткнулась в её круглое лицо и обнаружила на нем нос-картофелину.
Прасковья кивнула.
– Мы собираем о нем материал.
– Муж-то мой Коля год как помер, – наконец, хриплым голосом выдавила хозяйка и поправила платье.
– Примите наши соболезнования! Разрешите задать вам несколько вопросов о колхознике Журавлеве. Не помешаем?
– В дом-то пустите? – подсказала Антонина.
– Ох, конечно! Входите! Милости просим, – встрепенулась Прасковья. – Только я Бориску привяжу, а то вас покусает.
Немного косолапя, женщина кинулась к собачьей будке.
– Про корреспондентов – это ж только предлог, чтоб Прасковья нас не выставила, а в дом пригласила, – шёпотом сказала я Антонине, продолжая прерванный разговор у калитки. – А как вскроем бутылочку, все и забудется: кто приехал, из какой газеты, с чем, по какому поводу…
Мы вошли в комнату.
На подоконниках буйно кустилась герань, источая чуть резковатый запах. В углу царила беленая печь. Заслышав наши шаги, с неё на пол спрыгнула кошка. Потянулась, выгнула спину и, журча, потёрлась о ноги.
– Брысь, Милка! Не мешай! – шикнула хозяйка.
– Проходите. Садитесь, – Прасковья показала на лавку. – Или лучше в переднюю комнату – там понарядней. А я приоденусь.
Она скрылась за дверью.
Мы осмотрелись.
Вкусно пахло пирогами. Я почувствовала, что проголодалась.
Комнаты у Прасковьи были небольшие, но уютные, без лишних вещей. На крашеном полу она расстелила самотканые цветные дорожки. Покрытый ажурной скатертью, приковывал взгляд стол. Над диваном протянулся ковёр, а у стены напротив стоял телевизор. В углу комнаты висели икона с тихо тлеющей лампадкой. Сквозь прикрытые ставни солнце лизало пол. Чистота и покой. Умиротворение.
Я подошла к окну и выглянула во двор. В будке изнывал от жары лохматый Бориска.
Антонина печально ходила по дому, трогала скатерть, прикасалась к стенам. Прижала пальцами листик герани, потёрла. Поднесла ладонь к лицу и вдохнула с руки запах. Прислонилась головой к косяку двери – на мгновение застыла. Казалось, все в доме она хочет запомнить. Увезти с собой в воспоминаниях.
Я выгрузила на стол конфеты, поставила рядком бутылки.
– Не пойму я что-то: вы что ж, из газеты?
Прасковья вышла из спальни, поправляя на боках складки.
Она нарядилась в тёмное платье с белым воротником до пят, утихомирила волосы – подсобралась, постройнела.
– Не обессудьте – я картошку полола. На жаре умаялась и прилегла отдохнуть. Свалилась в сон замёртво и не сразу ваш стук услышала. Это что же – гостинцы? – увидела она на столе бутылки.
– И сахар в мешке. Варенье готовите? – спросила Антонина.
– Варю. Но теперь уж мало. Коля мой вишнёвое больно любил. А мне одной-то – много ли надо?
– А дети?
– В городе. Снохи сами хозяйки. Два сынка у меня. В магазинах сласть берут. Сейчас не больно-то своё нужно. А за сахар спасибочки. Ой, что же я столбом стою, вырядилась! Надо стол накрывать! У меня и пироги припасены – будто чуяла, что гости нагрянут.
Она кинулась к печке.
– А что же Коля-то умер? Болел что ли? – поинтересовалась я.
– Не болел – сердце. А так сильный был, крепкий… Никогда на здоровье не жаловался, – Голос Прасковьи дрогнул.
– А фотографий нет Николая?
– Как это нет! Полный альбом в шкафу. Возьми-ка, листай, – сказала она Антонине, показывая на полку. – И дети снимали, и внуки. А ты куски-то покрупней нарезай, а то начинка повылетает, – подсказала мне.
Антонина вынула из шкафа пухлую папку с фотографиями.
– О-о-й, детонька, а спина-то твоя? – вдруг охнула Прасковья, заметив, что я повожу плечами, стараясь унять боль. – Никак ты обгорела? – Она посмотрела на мою обожжённую спину.
– Есть немного, – Я откусила от пирога. – По солнцу много ходили. И проголодалась! Вкуснотища! – похвалила. – С капустой и грибами?
– Бери, ешь! Там с луком и яйцами, и сладкие. Все нарезай, не жалей. Вот что, милая, бросай-ка ты эту затею, – вдруг сказала Прасковья и забрала у меня нож. – В погреб айда, подсобишь мне. Чую я, намаешься ты со своей болячкой.
Мы вышли во двор. Увидев меня, Бориска заворочался в будке. Лениво подал осипший голос.
– Ты не бойся его, – сказала Прасковья. – Пес добрый. В будке сидит для острастки. И мне в компанию. Нынче в деревне хулиганничают, – Она серьёзно посмотрела. – Раньше, бывало, на целый день уходили – на сенокос или в поле, дверь от негодного человека и не думали запирать. Щеколду цепляли – от ветра и чтоб куры в дом не зашли. И собак во дворах не держали. А нынче к тем, у кого хозяйство покрепче, лодыри и бездельники наведываются, огородом промышляют. А я что же – одна… Ночью без мужика страшно…
– А что за тунеядцы? Местные? – не поняла я.
– И местных полно, и из городов шатаются. Пьёт население-то, – Прасковья вздохнула. – В деревне всегда есть чем поживиться.
Мы прошли по прибранному двору в пристройку.
– Там у меня огород, – махнула вдаль хозяйка.
Я увидела ухоженные грядки.
– Морковка есть? – спросила.
– И морковка, и лук, и чеснок… Всего понемногу. Хочешь морковку? Пойдём! – Прасковья потянула меня в огород. Мы прошли мимо курятника к грядкам. – Цепляй! Земля пушистая, мягкая. Ищи покрупнее. Тащи!
Я легко вытянула за хвост «девицу в темнице» – большую сочную морковку.
– Вымой в кадушке. Вода дождевая, свежая.
Я вымыла и захрустела:
– У-у-у! Вкусно!
– А что же не вкусно – солнцем пригрето. Земля-то какая у нас – пух! Там у меня баня, – показала хозяйка на утопающую в мальвах пристройку. – Хорошая у меня банька, справная. Вам бы попариться! Может, поночуете? Баню затеем? Славная баня – истинно, я не хвалюсь. Колюша старался, строил. Лавки широкие и каменка новая. Оставайтесь в ночь, у меня и веничек приготовлен.
– Навряд ли мне удастся попариться, – Я повела плечами.
– Правда, спина у тебя… Непорядок, – спохватилась Прасковья. – Но мы это быстро поправим.
Она открыла погреб. На нас дохнуло холодом.
Заткнув под пояс подол нарядного, будто концертного, платья, хозяйка ловко нырнула в морозное чрево.
– Компот какой любишь? Вишнёвый? Клубничный? – крикнула мне из глубины.
Банки с вареньем, соленьями и маринадами мы внесли в дом и составили рядком у порога.
– От меня гостинец, с собой возьмёте, – Прасковья махнула рукой на цветную шеренгу.
Я запротестовала.
– А как же! Без угощения нельзя, – не согласилась хозяйка. – У нас без этого не положено.
Из кастрюли, которую мы вытянули из погреба, Прасковья налила сметану и большой ложкой стала мешать её в миске.
– А теперь скидывай платье, – скомандовала.
– Что? – растерялась я.
– Снимай платьишко-то, не стесняйся! А то запачкаю. Спину твою опаленную стану лечить. Хорошая сметана, жирная – не сумлевайся! Из- под Дуняши – коровушки, – Прасковья с аппетитом облизала ложку.
Мне было трудно сопротивляться. Я находилась в поле её притяжения. От душевного обаяния незатейливой бабы-крестьянки стала безвольной, как морковка.
Прасковья двигалась не спеша, а говорила, словно баюкала. Из ее глаз на меня проливался тёплый живительный свет, который окутывал и успокаивал. Может, это и есть тыл, защита, о которых сокрушалась Антонина? Я уже не видела её узловатых пальцев, скованных непомерным трудом, загорелого, печеного цвета щёк, глубоких морщин по лицу от солнца. И даже неуместный концертный балахон очень мне нравился. Хотелось слушаться и подчиняться. Плыть по течению. Потому что знала – все на пользу. Вот скажи сейчас Прасковья: «Айда корову доить!» – в закоулках сознания память разыщет и этот древний инстинкт.



