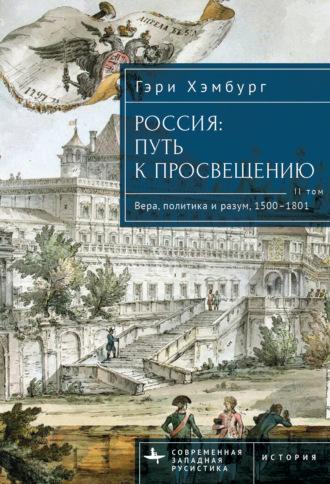
Ольга Терпугова
Россия. Путь к Просвещению. Том 2
Письма Фонвизина из Франции 1777–1778 годов принадлежат к числу самых тонких по наблюдениям, тщательно написанных и впечатляющих памятников екатерининской эпохи. В них он заявляет о своем отказе видеть во Франции культурный образец для России, и отвергает французские нравы еще более решительно, чем его знаменитые преемники: Карамзин и Александр Герцен. Подобно Карамзину и Герцену, Фонвизин использовал французскую культуру как декорацию для утверждения русской гордости. Как и Герцен, Фонвизин обосновывал свою гордость странным утверждением, что угнетенные русские почему-то более «свободны», чем «порабощенные» французы, несмотря на отсутствие у русских свободы по законодательству. И Фонвизин, и Герцен считали французскую городскую жизнь отвратительной, подлой, исполненной нищеты и праздного богатства. Оба критиковали дух конформизма среди «образованной» публики: Фонвизин – за лживость и порочное мышление, Герцен – за то, что конформизм – это продукт этики «среднего пути», ведущего к посредственности.
Однако в отличие от антизападничества Герцена 1850-х годов, которое было непременным элементом его аграрного социализма, антизападничество Фонвизина было связано с его (полу) традиционной религиозностью. Большинство философов Фонвизин считал секулярными мыслителями, которые отреклись от Бога лишь для того, чтобы воздвигнуть себе новый идол – корысть. В своей алчности философы были едины с жаждущими денег французскими простолюдинами. Может быть, только Вольтер и Руссо избежали этого пагубного идолопоклонства, но Вольтер, возможно, вместо этого был готов основать секту собственного изобретения, а Руссо (по мнению Фонвизина) запятнал свою «честность» самоубийством, пусть даже «героическим». По письмам из Франции очевидно, что Фонвизин не одобрял ни невежественных священников, ни «суеверий», которые он наблюдал в Страсбурге и Монпелье во время публичных религиозных обрядов. Не ценил он и потустороннюю религиозность, которую наблюдал в Лангедоке. Его мировоззрение не предполагало полного отказа от просвещения: напротив, он находил компромисс или срединный путь между «рабством» суеверий и «высокомерием» просветительского секуляризма. Читая между строк, мы видим, что Фонвизин апеллирует как к вере в Бога, так и к универсальному разуму – к недемонстративной вере, основанной на поклонении Богу в подлинном сообществе верующих, связанных любовью, и к разуму, лишенному презрения к «непросвещенным». Его девизами были вера в Бога и искреннее доверие («добрая вера»).
Утверждение Фонвизина о том, что Россию следует предпочесть Франции и что в ней есть место подлинной свободе, не следует понимать как восхваление екатерининского правления. Его замечания о французской тирании, несправедливости и взяточничестве намекали и на хорошо известные особенности российской политической жизни. Обличение недостатков французской культуры не освобождало от критики русскую культуру, поскольку русские неразумно стремились подражать французскому образованию, а с ним усваивали и французские пороки. Его аргументы сводились к тому, что порочная культура Франции не должна служить образцом для России и что «Бог создал нас не хуже их людьми» [Фонвизин 1959, 2: 476]. За этими аргументами, безусловно, стояла неприкрытая национальная гордость, но не следует забывать о том, что Фонвизин испытывал неловкость, даже смущение от того, что многие русские интеллектуалы «низкопоклонничали» перед Западом.
Фонвизин, Панин и фундаментальные политические реформы
Фонвизинское «Рассуждение о непременных государственных законах» было написано, вероятно, в 1782–1783 годах, в последние месяцы жизни Никиты Панина, хотя о необходимости реформирования российского государства Фонвизин начал размышлять, по-видимому, намного раньше. Насколько нам известно, Фонвизин составил «Рассуждение» по указанию Панина как введение к другому документу – проекту основных законов Российской империи. Панин правил «Рассуждение» Фонвизина и, вероятно, планировал взять на себя всю ответственность за его авторство. Оба документа – «Рассуждение» и проект основных законов – Панин намеревался передать Павлу по восшествии его на престол [Пигарев 1954: 134–137]. К сожалению, Панин умер, не успев завершить работу над конституционным проектом – а если он ее и завершил, то проект не сохранился. Однако он успел изложить в общих чертах его содержание и вверить его своему брату Петру для последующей передачи Павлу [Шумигорский 1907: п1–13].
И «Рассуждение», и конституционный проект были окутаны тайной. Хотя Панин сообщил Павлу, что документы находятся в стадии подготовки, он не передал их копии царевичу. Панин наверняка опасался, что случайное раскрытие документов приведет к аресту его самого, его брата Петра и Фонвизина по обвинению в заговоре против российского престола. Если бы документы попали в руки Екатерине, они наверняка послужили бы предлогом для масштабных арестов в Коллегии иностранных дел и в армии. Если бы Екатерина узнала об этих бумагах, она, вероятно, приказала бы арестовать Павла как соучастника заговора, поскольку само владение такими документами могло быть истолковано как неопровержимое доказательство его оппозиционности. Наличие опасений по поводу массовых арестов подтверждается письмом Петра Панина Павлу от октября 1784 года в котором Панин уклончиво заметил:
Известны по несчастию ужасные примеры в Отечестве нашем над целыми родами сынов его, за одни только и разсуждении противу деспотизма, распространяющагося из всех уже Божеских и естественных законовъ; сего ради, а особливо что и собственная Вашего Величества безопасность состояла еще в подвластном положены, не дерзнул я осмелиться поднести Вам сочинены брата моего противу всемогущества [Екатерины], господствующаго над всякими законами и над справедливостию [Шумигорский 1907: п2–3].
Петр Панин не уточнил, какие жертвы царского деспотизма он имел в виду. Возможно, он подразумевал бояр, арестованных Иваном IV во время опричнины; либо волну арестов после разгрома стрельцов в начале царствования Петра; либо тех, кто был наказан в связи с «заговором» Алексея Петровича против Петра; или даже тех, кто был арестован и сослан за политическую оппозицию в период между 1725 годом и окончанием дворцового заговора в 1730 году; не исключено также, что речь идет о жертвах бироновщины при Анне Иоанновне. Учитывая хорошо известное восхищение Панина Петром I, он вряд ли мог считать правление Петра примером «царского деспотизма», поэтому более вероятно, что прецедентом «тирании», на который ссылался Петр Панин, было либо правление Ивана IV, либо владычество Бирона в 1730-х годах.
«Рассуждение» Фонвизина начиналось с утверждения, что «верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных». По своей природе эта власть неограниченна, но именно поэтому
…просвещенный ясностию сея истины и великими качествами души одаренный монарх, облекшись в неограниченную власть и стремясь к совершенству поскольку смертному возможно, сам тотчас ощутит, что власть делать зло есть не совершенство и что прямое самовластие тогда только вступает в истинное свое величество, когда само у себя отъемлет возможность к соделанию какого-либо зла.
Исходя из предпосылки, что неограниченная политическая власть держится только на добродетели, Фонвизин утверждал, что правитель должен быть подобием Бога, который «потому и всемогущ, что не может делать ничего другого, кроме блага», следуя «правилам вечныя истины», которые Он сам не может нарушить [Фонвизин 1959, 2: 254–255]. Если земной правитель хочет действовать добродетельно, как «подобие Бога», он должен следовать основным законам, иначе его государство не выживет.
Фонвизин утверждал, что всякое правительство, не имеющее основного закона, «непрочно». «Где же произвол одного есть закон верховный, тамо прочная общая связь и существовать не может; тамо есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей». При правлении по произволу не правитель приспосабливает свой характер к законам, а законы изменяются сообразно характеру правителя, утверждал Фонвизин. Таким образом, при произволе то, что законно в один день, становится преступлением в другой. При режиме, основанном на капризе правителя, подданный может повиноваться из страха, но никогда не подчинится из морального долга. Такую покорность Фонвизин называл «рабским подобострастием» перед «безумным велением сильного» [Фонвизин 1959, 2: 255].
При произволе, утверждал Фонвизин, «подданные порабощены государю, а государь обыкновенно своему недостойному любимцу». Фонвизин настаивал на эпитете «недостойный», поскольку статус фаворита никогда не присваивался за заслуги перед отечеством, а всегда являлся результатом его ловких интриг.
Однако с укреплением влияния фаворита злоупотребление властью неизбежно приобретает более широкие масштабы, «и уже престает всякое различие между государственным и государевым, между государевым и любимцевым… Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок и презрителен». Пороки, свойственные фавориту – гордость, наглость, коварство, алчность, сластолюбие, бесстыдство, лень – становятся всеобщими: «все сии пороки разливаются и заражают двор, город и, наконец, государство» [Фонвизин 1959, 2: 256]. При таком режиме, писал Фонвизин, подданные относятся друг к другу бесчеловечно, пропадает желание служить в армии, продвижение по службе происходит не по заслугам, а благодаря покровительству и протекции. Судьи при деспотии игнорируют принципы правосудия, каждый стремится обогатиться, ограбив другого. Даже если сам правитель перестанет применять власть, ничто не сможет остановить это «стремление порока», пока у власти остается фаворит, отмечает Фонвизин. В итоге законы превращаются в пустые фразы, народ угнетен, дворянство унижено. Короче говоря, как утверждает Фонвизин, произвол власти неизбежно переходит в тиранию, и в конечном счете государство возвращается в состояние анархии [Фонвизин 1959, 2: 257–258].
Фонвизинская разгромная критика фаворитизма была, конечно, прямой атакой на фаворитов Екатерины Григория Орлова и Григория Потемкина. Фонвизин утверждал, что власть, от которой проистекают пороки и тирания, «есть власть не от Бога, но от людей, коих несчастия времян попустили, уступая силе, унизить человеческое свое достоинство» [Фонвизин 1959, 2: 259]. Поскольку такой режим не имеет нравственной легитимности, народ может воспользоваться правом совершить революцию против неправедной власти. Фонвизин писал: «В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает». По мысли Фонвизина, человеческие сообщества «основаны на взаимных добровольных обязательствах» и разрушаются, как только их перестают соблюдать. Таким образом, государство держится на обязательствах между правителем и подданными. Правитель соглашается добросовестно исполнять свои обязанности, а народ – быть управляемым; кроме того, правитель должен понимать, «что он установлен для государства и что собственное его благо от счастия его подданных долженствует быть неразлучно» [Фонвизин 1959, 2: 259].
По мнению Фонвизина, взаимные обязательства правителя и подданных не предполагают, что государь должен уступать народным страстям. Фонвизин уподоблял государя «душе» общества, а простой народ – «политическому телу», которое следует указаниям «души». Он считал, что пока государь руководствуется голосом Божьим и «законами естественного правосудия», он управляет справедливо; если же правитель перестает следовать божественным и естественным законам, то политическая власть становится нелигитимной [Фонвизин 1959, 2: 260]. Таким образом, залогом политической стабильности в государстве является подчинение государя закону и подражание божественным добродетелям. Две незаменимые добродетели хорошего правителя, по мысли Фонвизина, – это «правота» и «кротость».
Под «правотой» Фонвизин понимал как соблюдение закона, так и справедливое отношение к гражданам: «Сильный и немощный, великий и малый, богатый и убогий, все на одной чреде стоят – добрый государь добр для всех» [Фонвизин 1959, 2: 261]. Добрый государь понимает, что «он повинен… не только за дурно, которое сделал, но и за добро, которого не сделал… ибо он должен знать, что послабление пороку есть одобрение злодеяниям и что, с другой стороны, наистрожайшее правосудие над слабостьми людскими есть наивеличайшая человечеству обида». Поэтому праведность требует от правителя сочетания справедливости и милосердия, как это всегда делает Бог [Фонвизин 1959, 2: 261–262].
«Кротость», по Фонвизину – это привычка ума, которая «не допускает… несчастной и нелепой мысли, будто Бог создал миллионы людей для ста человек». Кроткий правитель воспринимает себя как служителя государства. Единственное преимущество правителя перед другими – возможность сделать больше добра, чем всякий другой. Кроткий государь боится порока и отвращается от права сильного. Он понимает, что подлинное право основано на разуме, а не на силе, что повиновение должно происходить от добровольного выбора, а не принуждения: «Сила и право совершенно различны как в существе своем, так и в образе действования. Праву потребны достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железы, топоры» [Фонвизин 1959, 2: 263]. Иными словами, кроткий государь у Фонвизина никогда не ставит себя выше других в политическом сообществе и не забывает, что выживание государства зависит от консенсуса, а не от насилия.
Как считал Фонвизин, в хорошо управляемой стране и государь, и подданные в безопасности. Политическую свободу он определял как свободу делать то, что человек хочет в отсутствие внешнего принуждения. Свобода действий предполагает распоряжение собственностью, то есть возможность пользоваться имуществом и талантами беспрепятственно. Фонвизин утверждал, «что по сему истолкованию политической вольности видна неразрывная связь ее с правом собственности». Но тогда политическая свобода не может существовать при деспотизме, когда люди становятся рабами правителя. Не может быть политической свободы и там, где один человек пользуется полной властью над другими, как при крепостном праве [Фонвизин 1959, 2: 264].
Фонвизин вовсе не считал, что политическую свободу можно мгновенно установить там, где сейчас ее нет. По его мнению, «главнейшая наука правления состоит в том, чтоб уметь сделать людей способными жить под добрым правлением». Эта «наука» требует постепенного воспитания народа, пока добродетель не станет «врезана в сердца». Фонвизин считал, что воспитание народа – это в значительной степени процесс «сверху вниз», который начинается с правителя: «…одно благонравие государя образует благонравие народа» [Фонвизин 1959, 2: 266].
«Рассуждение» Фонвизина представляет собой непростой компромисс между христианским традиционализмом и западноевропейской концепцией общественного договора. С одной стороны, Фонвизин требовал, чтобы государь подражал Богу, повинуясь природным законам, поступая праведно, уважая свободу личности и человеческое достоинство граждан. По мысли Фонвизина, Бог управляет вселенной через Свою благость, которая придает творению некую благородную упорядоченность. Так и добрый правитель управляет государством посредством основных законов, гарантирующих справедливость, равенство и свободу. Если бы Бог нарушал естественные законы, Он вел бы себя подобно деспоту; так же и правитель, нарушающий основные законы, порождает тиранию. Таким образом, как мы видим, политическая мысль Фонвизина пришла к явно религиозной модели правления. С другой стороны, Фонвизин серьезно относился к идее о том, что власть должна опираться на согласие управляемых, ибо государство существует для того, чтобы отстаивать их интересы. Нарушая этот договор, государство лишается поддержки управляемых, поэтому при тираническом режиме граждане имеют «право» на восстановление своей свободы. О праве на революцию Фонвизин мыслил в основном в светском ключе, поскольку деспотическое правительство получает свою власть «не от Бога, а от народа». Однако право на революцию он рассматривал и как восстановление праведного правления, то есть как возвращение к христианскому, богоугодному государству. Идея права на революцию в его теории соединяет в себе христианский традиционализм и концепцию общественного договора, и, надо сказать, довольно несуразно, поскольку Фонвизин считал, что праведное правление опирается на разум и народное согласие, а не на революционное насилие.
Поэтому добрый государь у Фонвизина праведен и кроток. Легко увидеть, каким образом из божественных свойств можно вывести праведность (следование закону, беспристрастие, правосудие, милосердие). Кроме того, религиозные ценности, заложенные в его понятии праведности, легко перевести на светский язык. С другой стороны, Фонвизин трактовал кротость как сознательную самоидентификацию правителя с остальным человечеством. Это, казалось бы, превращает кротость в светскую добродетель, поскольку правителю не обязательно быть религиозным, чтобы идентифицировать себя как одного из многих членов политического сообщества. Конечно, Фонвизин мог считать кротость одной из характеристик Иисуса, а значит, и свойством Бога, но если это так, то в «Рассуждении» он не указывает на эту связь прямо.
Фонвизинская идея политической свободы была, по сути, тем, что Исайя Берлин называл «негативной свободой», свободой от внешнего принуждения. Фонвизин считал, что человек должен обладать личной автономией – пространством или областью, в пределах которой он мог бы свободно распоряжаться своей личностью и имуществом без вмешательства других. Из этого следовало, что, поскольку члены политического сообщества должны уважать свободу друг друга, отказываясь от принуждения, то в деятельности политического сообщества нужно участвовать добровольно или не участвовать вовсе. Ожидая, что в хорошо организованном государстве граждане будут с удовольствием участвовать в общественной деятельности и вести себя при этом добродетельно, поскольку это хорошо и разумно, Фонвизин включил в свою политическую теорию элемент позитивной свободы. Иными словами, граждане должны усвоить модель добродетели и благочестия, которую демонстрирует правитель, даже если они не вполне понимают, что праведный государь действует в интересах общества. Более того, представления граждан о разумном и хорошем, очевидно, не могут выходить за рамки этой модели. Большим недостатком политической теории Фонвизина является механическая связь между благочестивым правителем и политической добродетелью. Он исходил из того, что добрый пример праведного государя повлияет на поведение масс. Но что, если такой метод нравственного воспитания не сработает так, как предполагалось? Что, если добрый пример правителя не будет способствовать правильному нравственному воспитанию граждан? В «Рассуждении» Фонвизина даже благочестивый правитель не может прибегнуть к принуждению для «перевоспитания» нерадивых подданных. Более того, Фонвизин не предусмотрел разделения властей для обуздания худших порывов человечества.
«Рассуждение» Фонвизина было введением или «прологом» к проекту основного закона, который готовился под руководством Панина. Проект дошел до нас во фрагментарном виде, в виде списка заголовков статей, в которых были указания на содержание, но не реальные формулировки. Этот «план» конституционного проекта был опубликован Е. С. Шумигорским в 1907 году в качестве приложения к его биографии императора Павла [Шумигорский 1907: п4–13]. Из плана видно, что Панин проектировал монархию, в которой главным местом обсуждения важнейших законов был бы государственный совет. Российская судебная система подлежала реорганизации, которая гарантировала бы обвиняемым право на справедливый и открытый суд. Чтобы решить щепетильную проблему «оскорбления величества», Панин предложил дать четкое определение преступлений против монарха, что должно было ограничить произвол при выдвижении обвинений против политических диссидентов. Обеспечение правопорядка предлагалось возложить не на монарха, а на надзорный орган – Сенат, который должен был гарантировать соблюдение основного закона. Панин предлагал защитить имущественные права россиян и утвердить право существующих религиозных общин на вероисповедание. Он также призывал издать закон, определяющий порядок престолонаследия. В напряженном политическом контексте начала 1780-х годов, когда Павел был глубоко возмущен тем, что вместо него правит Екатерина, этот аспект основного закона, был, пожалуй, самым чувствительным.
Дэвид Рэнсел справедливо утверждает, что составленный Паниным в 1783 году конституционный проект, по крайней мере в части, касающейся законодательного процесса, «во всех существенных деталях повторял проект Императорского совета 1762 года» [Ransel 1975: 273–274]33. Рэнсел также верно отметил, что Панин склонялся к разделению судебной и исполнительной властей и предполагал обеспечить защиту основных законов даже от изменений, вносимых монархом [Ransel 1975: 274]. Но кроме того, проект основных законов 1783 года отражал значительную эволюцию взглядов Панина в сторону защиты прав личности и создания правового государства. В этом проекте, в отличие от проекта Императорского совета 1762 года, Панин настаивал на свободе вероисповедания, ограниченной свободе слова, свободе собственности, справедливом и открытом суде. Положение проекта 1783 года о том, что порядок престолонаследия должен определяться законом, было одновременно и признаком правового мышления, и шагом к верховенству закона. Хотя проект 1783 года указывал на необходимость разделения властей, четкого разделения государственных полномочий он не устанавливал.
Более четкое представление о проекте Панина появилось в 1974 году, когда М. М. Сафонов опубликовал две записки великого князя Павла, в которых кратко излагались некоторые аспекты плана Панина. Первая записка под названием «Рассуждения вечера 28 марта 1783» представляла собой протокол беседы Павла с Никитой Паниным за два дня до смерти последнего [Сафонов 1974: 261–280]. В ней Панин говорил, что
…согласовать необходимо нужную монархическую екзекутивную власть по обширности государства с преимуществом той вольности, которая нужна каждому состоянию для предохранения себя от деспотизма или самаго государя или частного чего-либо. Сие все полагается уже вследствие установления и учреждения порядка наследства, без котораго ничего быть не может; которой и есть закон фундаментальной.
По всей видимости, Панин и Павел согласились между собой, что введение личной свободы в России – это долгосрочная цель, которой нельзя достигнуть быстро. В ближайшей перспективе они обещали «стараться помочь и отвратить главнейшия неудобства. Поможем сохранению свободы состояния каждаго, заключая оную в должныя границы, и отвратим противное сему, когда деспотизм, поглащая все, истребляет наконец и деспота самаго» [Сафонов 1974: 266]. Панин утверждал:
Должны различать власть законодательную и власть, законы хранящую и их исполняющую. Уложенная может быть в руках государя, но с согласия государства, а не инако без чего обратится в деспотизм. Законы хранящая должна быть в руках всей нации, а исполняющая в руках под государем, предопределенным управлять государством [Сафонов 1974: 267–268].
Однако, согласно протоколу, Панин решил отложить разделение властей на неопределенное будущее. До той поры он предложил ввести «свободный выбор членов собрания таковой власти [хранящей законы]», то есть избрание сенаторов. Он также предлагал избирать наместников провинций, которые должны были обеспечивать исполнение законов в целом по стране, но этим избранникам предстояло для вступления в должность «конфирмоваться государем». План Панина предполагал разделение Сената на гражданский и уголовный департаменты, а также его размещение в обеих столицах (Москве и Петербурге). Каждое наместничество должно было направлять в Сенат по одному делегату от каждого из шести классов выборщиков.
Возникающие юридические казусы предполагалось обсуждать на пленарных заседаниях Сената, на которых должны были выступать избранные делегаты от того наместничества, в котором произошло обсуждаемое событие.
Панин предлагал назначить «канцлера правосудия, министра государева», задачей которого было «соглашать объявлением воли законов и намерений государя как разныя мнения, так и направлять умы к известной цели» [Сафонов 1974: 267]. Генерал-прокурор Сената должен быть подчинен канцлеру правосудия [Сафонов 1974: 268].
Панин видел Сенат в основном как судебный орган: по его выражению, это был «хранитель законов». Он также рассматривал его как исполнительный орган, но не очень точно определял исполнительные полномочия Сената. Однако в основном исполнительная власть, по замыслу Панина, должна была принадлежать специализированным органам, занимающимся политикой, финансами, торговлей, армией и флотом, казной. Теоретически надзор за этими органами должен был осуществлять государь, но Панин признавал, что «сему обнять ни по физической, ни по моральной возможности невозможно, а еще меньше, когда взойти в исчисление страстей и слабостей человеческих» [Сафонов 1974: 268].
Вторая записка Павла оставлена без названия. Вероятно, Павел написал ее после первой, либо как дальнейшее развитие предложений Панина, либо как выражение собственных взглядов. Сафонов указывает, что Павел предполагал создать министерскую систему с восемью департаментами или министерствами (юстиции, императорского двора, финансов, бухгалтерии, коммерции, армии, флота и внешних сношений). Министры или главы департаментов должны были иметь место для собраний, «в котором могли сноситься по делам… А сие место, в котором им всем собираться, должно быть государев совет». На основании этого лаконичного замечания Сафонов предположил, что Павел предлагает учредить государственный совет как законодательный орган, подобный Императорскому совету из Панинского проекта 1762 года [Сафонов 1974: 268–269].
Согласно второй записке, Сенат предстояло учредить в четырех городах: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Глухове. Каждый из четырех сенатов предполагалось разделить на два департамента (уголовный и апелляционный), состоящих из семи членов, которые должны были избираться из числа дворян, подведомственных сенату губерний. На каждую вакантную должность следовало избрать трех кандидатов, уведомив об избрании Петербургский сенат. Петербургский сенат, как орган высшей юрисдикции, должен был передать список кандидатов государю, который утверждал одну из кандидатур на должность сенатора. Четыре местных сената решали вопросы, возникающие в их юрисдикции. Если вопрос невозможно было решить в Москве, Казани или Глухове, его направляли в Петербургский сенат. Если же и Петербургский сенат оказывался не в состоянии решить вопрос, его представляли на рассмотрение государя через канцлера правосудия.
По всей видимости, Павел рассматривал будущий Сенат в основном как судебный орган, рассматривающий уголовные дела и судебные апелляции. Однако, как отмечает Сафонов, Павел также планировал наделить Сенат правом «представлять государю вышеозначенным порядком о учреждении, поправлении и отмене и по другим частям, касающимся безпосредственно до правительства или до народа и пр.: как то по департаментам камерному, финанц, денежному, щетному, комерц и военным обеим (касательно до зборов для их и до рекрутского набора)», за исключением лишь внешней политики [Сафонов 1974: 269–270]. Сафонов утверждал, что павловский проект Сената с его квазизаконодательными полномочиями «воплотил высказанную в “Разсуждениях вечера 28 марта 1783” панинскую мысль, что законодательная власть “может быть в руках государя, но с согласия государства, а не инако, без чего обратится в деспотизм”».
Трудно сказать, совпадали ли две записки Павла с предложенными Паниным основными законами во всех важных деталях, но есть веские основания предполагать, что они в целом соответствовали ходу мыслей Панина. В своем наброске плана основных законов Панин склонялся в сторону разделения властей. В записках Павла излагались конкретные шаги по определению полномочий Сената и нового государственного совета. В проекте Императорского совета 1762 года Панин планировал совет как законодательный орган; в записках Павла 1783 года совет представал как место обсуждения текущих политических проблем, а значит, и место выработки новых законов. В 1762 и 1783 годах, проектируя основные законы, Панин стремился реорганизовать Сенат, превратив его главным образом в судебный орган. В его плане 1783 года также предполагалось, что Сенат будет нести законодательную функцию, о чем говорится также во второй записке Павла. К этим существенным моментам сходства между замыслами Панина и записками Павла можно добавить и косвенные свидетельства. Судя по всему, Панин был доволен результатом своего разговора с Павлом, состоявшегося вечером 28 марта. Сам Павел отмечает «необыкновенное оживление и веселость» Панина в тот вечер34. Спустя многие годы декабрист М. А. Фонвизин сообщал со слов своего отца Александра Ивановича (брата Дениса Ивановича), что Павел «…согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своею подписью и дал присягу в том, что, воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие» [Фонвизин 1982: 128].
Свидетельства М. И. Фонвизина часто не принимались во внимание, поскольку он относил составление проекта основных законов к 1773–1774 годам и трактовал «конституционный» документ как основу планировавшегося переворота, направленного на устранение Екатерины с престола. Тем не менее описание М. И. Фонвизиным панинской «конституции» в целом соответствовало плану, который Панин и Павел обсуждали в марте 1783 года. По словам М. И. Фонвизина, Панину
…хотелось ограничить самовластие твердыми аристократическими институциями. С этой целью Панин предлагал основать политическую свободу сначала для одного дворянства, в учреждении верховного Сената, которого часть несменяемых членов (inamovibles) назначалась бы от короны, а большинство состояло бы из избранных дворянством из своего сословия лиц. Синод также бы входил в состав общего собрания Сената. Под ним в иерархической преемственности были бы дворянские собрания губернские или областные и уездные, которым предоставлялось право совещаться об общественных интересах и местных нуждах, представлять о них Сенату и предлагать ему новые законы (avoir l’initiative des lois).
Согласно этому плану, в изложении М. И. Фонвизина,



