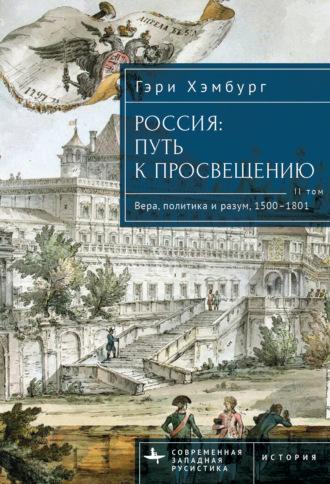
Ольга Терпугова
Россия. Путь к Просвещению. Том 2
Было ли тем не менее «Послание» Фонвизина «памятником русского философского свободомыслия XVIII века»? Ответом на этот вопрос должно быть категорическое «нет». Ничего «философского» в стихотворении нет: в нем просто пересказываются существующие способы отношения к сотворенному миропорядку. Пигарев обратил внимание на статью А. Т. Болотова 1764 года «О незнании нашего подлого народа», в которой Болотов сообщает о разговоре двух слуг, который жаловались друг другу на хозяев. Затем один призывает другого терпеливо переносить тяготы, уповая на милость Божию. Второй слуга отвечает, что подумывает о самоубийстве. По словам Болотова, в христианские представления о теле и душе, бессмертии души и воскресении из мертвых ни тот ни другой не верил. Более вероятным они считали, что после смерти душа переселяется в животное или в другого человека. Болотов был потрясен таким невежеством относительно религиозных догм, пока один из его друзей не сказал ему, «что между подлости едва ли сотого человека сыскать можно, который бы о бессмертии души твердо удостоверен был» [Пигарев 1954: 76–77]. Возможность того, что «Послание» Фонвизина в значительной степени передает народные настроения, следует рассмотреть серьезно, поскольку первый слуга, упомянутый в стихотворении, – Михаил Шумилов – носит то же имя, что и реальный камердинер Фонвизина [Фонвизин 1959, 2: 610].
Нельзя также считать, что язвительность кучера Ваньки в отношении священников-обманщиков доказывает антиклерикальную позицию самого Фонвизина, или что критика жадности священников свидетельствует о его «вольнодумстве». Как мы уже видели, критика неподобающего поведения священников – почтенная тема русской литературы, которую можно обнаружить еще в «Слове Даниила Заточника», произведении XII века. Священническое корыстолюбие подвергалось поношению в «Сказании о попе Саве» (XVII век) [БЛДР 2010, 16: 412–414]. Таким образом, критика священников в «Послании» Фонвизина не должна непременно рассматриваться ни как «новая» или «современная» тема, ни как проявление тогдашнего вольнодумства. Жалобы на алчность и обман священников следует скорее рассматривать как «нормальную» черту христианского государства, в котором Церковь обладает институциональными полномочиями, а некоторые священники не соответствуют своему духовному призванию. Что было действительно новым во времена Фонвизина, так это юношеское глумление над небезупречными церковниками – модное поветрие, к которому присоединился Фонвизин, опубликовав свое стихотворение, и о котором впоследствии сожалел.
Фонвизинский перевод «Альзиры» сделал доступной для русских театралов лучшую из пьес Вольтера – драму об испанском завоевании Южной Америки и насильственном «обращении» перуанцев в христианство. Как считал Вольтер, военное завоевание Перу было жестоким и бесцеремонным, но еще более тягостным для перуанцев было навязывание им христианства. Драму насильственного обращения Вольтер показывает, заставляя главную героиню пьесы, девушку Альзиру, отречься от торжественного обещания выйти замуж по обычаям местной религии за своего возлюбленного, Замора, и сочетаться браком с испанцем Гусмано по европейскому обряду. В пятом явлении пятого действия Альзира говорит Замору:
Но верой Християн плененный разум мой
В ней зрел, иль чаял он в ней зреть закон святой.
Уста мои богов сего отвергли мира;
В том внутренно себя не обвинит Альзира.
Но отрещись богов, которым сердцем чтят,
Не заблуждение, но подла сердца яд,
Пред лицемерием измена сокровенна
Для бога избранна, и бога отрешенна,
Ложь пред вселенною, пред небом и собой
[Вольтер 1811: 61–62].
В предисловии к трагедии Вольтер пишет, что своей пьесой он пытался показать, «насколько истинный дух религии превосходит природные добродетели». Он утверждал, что религия варвара состоит в принесении в жертву богам крови своих врагов, но «христианин, получивший плохое наставление, вряд ли более справедлив». В пьесе защищается то, что Вольтер называет «истинным христианством», то есть религия, которая «состоит в том, чтобы ко всем людям относиться как к братьям, делать им добро и прощать их преступления» [Voltaire 1908: 1]. Глашатаем «истинного христианства» в трагедии выступает стареющий Альвар, бывший правитель Перу, который к финальной сцене пьесы склоняет и испанских завоевателей, и перуанцев к своей религии добродетели. В заключительных строках пятого действия Альвар говорит: «Зрю Божий перст в бедах, что рок на нас навлек. / Отчаянный мой дух ко Богу прибегает, / Который нас казнит, и купно нас прощает» [Вольтер 1811: 66].
Если Фонвизин разделял религиозное мировоззрение Альвара, то он не объявлял себя ни атеистом, ни антихристианином, а, скорее, критиковал существующую христианскую церковь во имя подлинных христианских идеалов. Если позиция Фонвизина была такова, обвинение в вольнодумстве в его адрес несправедливо.
Возможно также, что свой перевод пьесы Вольтера об испанских завоевателях Фонвизин задумал как назидание русским, правительство которых покорило столько степных нехристианских народов. Если так, то перевод был предостережением против применения силы во имя Бога, критикой русской религиозной «тирании» на юге. Пигарев отмечает, что в переводе Фонвизиным речи Альвара в третьем явлении четвертого действия явственно читается обличение колониального деспотизма, которого нет в оригинале Вольтера. В переводе Фонвизина Альвар заявляет: «Неограниченну зришь власть тиранов сих, / Им кажется, что сей и создан свет для них, / Что власти должен быть злодейской он покорным» [Пигарев 1954: 66]. Перевод Фонвизина говорит читателям о том, что тираническая власть иногда опирается на религиозное заблуждение.
При внимательном рассмотрении оказывается, что в «Послании к слугам» и в переводе «Альзиры» Вольтера Фонвизин выступает не поборником грубого атеизма, а сторонником более справедливого общественно-политического устройства России, основанного на «истинном христианстве». Говоря языком персонажа «Братьев Карамазовых» Достоевского, молодой Фонвизин усомнился не в Боге, а в Его мире. Однако не стоит преувеличивать скептицизм Фонвизина по отношению к миру. В его великолепном переводе «Иосифа» Битобе в девяти песнях (оригинал опубликован в 1767 году, перевод Фонвизина – в 1769 году) воспевается божественная мудрость и добродетельная жизнь, которая, невзирая на испытания, полагается на веру [Bitaubé 1767; Фонвизин 1959, 1: 443–606]. Даже в первые дни египетского плена Иосиф у Битобе отвергает искушение пролить кровь своих господ, ибо верит, что все пути – Божьи.
Таким образом, уже в 1769 году Фонвизин искал выход из своих религиозных метаний. В «Чистосердечном признании» он рассказывает о своем потрясении от кощунства графа П. П. Чебышева, обер-прокурора екатерининского Святейшего Синода (!). По совету сенатора Г. Н. Теплова, убежденного православного и критика модной безрелигиозности, Фонвизин прочитал книгу Самуэля Кларка «Доказательства бытия Божия и истины християнския веры» (1705), направленную против подразумеваемого безбожия Гоббса и Спинозы. В книге Кларка утверждалось, что, правильно применив человеческий разум, можно доказать существование Бога и обосновать нашу обязанность поклоняться Ему. Кларк нападал на тех мыслителей, которые сомневались в Боге, как на любителей порока, разврата и власти. Он также пытался показать, что Бог, присутствуя в пространстве и времени, способен в любой момент вмешаться в сотворенный мир. Конечной целью его книги, вероятно, было утверждение божественной свободы и реальности сотворения человеческой природы по образу и подобию Божьему24. Фонвизин был настолько впечатлен рассуждениями Кларка, что подумывал перевести «Доказательство» на русский язык [Фонвизин 1959, 2: 104–105]25.
В «Чистосердечном признании» Фонвизин пишет о Теплове, что тот «достойно имел славу умного человека». «Разум его был учением просвещенный» [Фонвизин 1959, 2: 102]. Следует подчеркнуть, что Фонвизин использует слово «просвещенный», поскольку в данном контексте оно подразумевает как светскую ученость (знакомство с западной философией), так и религиозную образованность (в смысле разумной верности христианству). Такое употребление термина свидетельствует о том, что Фонвизин в 1769–1770 годах не рассматривал просвещение и религиозную веру как бинарную оппозицию.
Бригадир
«Бригадира» Фонвизин написал в тот момент, когда еще не пришел к окончательному разрешению своих религиозных сомнений, но был на пути к этому. Он был еще молодым человеком, склонным острить в адрес своих товарищей и «всего святого». Те, кто стал мишенью его сатирических высказываний, считали его «злым и опасным мальчишкой», но сам он видел себя иначе, а именно как человека с добрым сердцем, который «ничего так не боялся, как сделать кому-нибудь несправедливость» [Фонвзин 1959, 2: 90]. Что неудивительно, критические замечания в адрес религии проникли в пьесу Фонвизина, но религиозное лицемерие он критиковал в контексте более широких проблем.
Как и многие другие молодые писатели, свое первое большое произведение Фонвизин построил на материале, взятом отчасти из его собственной жизни. Гневные вспышки бригадира в пьесе отражают вспыльчивый характер отца Фонвизина, а также холерическую натуру самого Фонвизина. Семейное неблагополучие в пьесе перекликается с платонической любовной интрижкой, которую Фонвизин имел в Москве с девушкой, пожилая мать которая слыла «набитою дурою». По его признанию, эта женщина «послужила мне подлинником к сочинению Бригадиршиной роли» [Фонвизин 1959, 2: 89].
Комедия «Бригадир» описывает семейную жизнь дворянской семьи в те времена, когда практика браков по расчету подвергалась нападкам со стороны сторонников брака по пылкой страсти и романтической любви. В начале пьесы члены семьи бригадира – сам бригадир, бригадирша и их сын Иванушка – только что приехали в деревню к друзьям – советнику, его жене и их дочери Софье. Советник с женой обещали выдать Софью замуж за Иванушку в течение месяца, но ни Софья, ни Иванушка не горят желанием вступать в брак. Софья надеется, что родители разрешат ей выйти замуж за честного человека Добролюбова. Иванушка же смотрит на брак с Софьей скорее как на бремя, чем как на счастливую возможность, но готов пойти на женитьбу ради возможной связи с будущей тещей, женой советника.
Представители старшего поколения выступают за брак Софьи и Иванушки по своим причинам: экономическим, романтическим либо личным. В первом явлении второго действия советник говорит Софье, что она должна выйти замуж за Иванушку за одно «хорошее достоинство» – его «изрядные деревеньки». Советник уверяет дочь: «А если зять мой не станет рачить о своей экономии, то я примусь за правление деревень» [Фонвизин 1959, 1: 62]. Когда Софья замечает, что ее будущая теща, бригадирша, – «хозяйничать охотница» и вряд ли допустит постороннее вмешательство в управление изрядными деревеньками, становится понятен второй расчет советника: он влюблен в бригадиршу. «Я привязан к ее свекрови, привязан очами, помышлениями и всеми моими чувствы… Вижу, что гублю я душу мою» [Фонвизин 1959, 1: 63]. Ослепленный страстью, советник до самого конца пьесы не понимает, что его собственная жена влюбилась в Иванушку. Советница называет Иванушку «трефовый король», «жизнь моя», «душа моя», «полудуши моей». В Иванушке она видит спасение от скуки и неудачного брака. В третьем явлении первого действия она обвиняет мужа в том, что он «повез меня мучить в деревню». По ее словам, советник – «ужасная ханжа», который «скуп и тверд, как кремень», но при этом «не пропускает ни обедни, ни завтрени и думает… что будто Бог столько комплезан, что он за всенощною простит ему то, что днем наворовано». Мужа она называет «мой урод» [Фонвизин 1959, 1: 55]. Бригадир тем временем влюблен в советницу. В четвертом явлении третьего действия он сравнивает ее с «фортецией, которую хочет взять храбрый генерал» [Фонвизин 1959, 1: 80].
Одна лишь бригадирша неуязвима для стрел Купидона. Когда советник в третьем явлении второго действия признается ей в любви, она не понимает его. Когда Иванушка объясняет ей намерения советника, она грозится рассказать мужу о его беззаконном предложении и передумывает, только когда сын говорит, что советник «шутил» [Фонвизин 1959, 1: 67–68]. По меркам образованного общества, бригадирша – простофиля, «дура», потому что не признает амурных развлечений. Согласно ее традиционному мировоззрению, брак – это часть естественного порядка, и к тому же он необходим для ведения хозяйства. В первом явлении первого действия она заявляет: «Мне… скучны те речи, от которых нет никакого барыша» [Фонвизин 1959, 1: 51]. Когда муж упрекает ее в том, что она уделяет больше внимания домашней скотине, чем ему, она отвечает с искренним недоумением: «Вить скот сам о себе думать не может. Так не надобно ли мне о нем подумать?» [Фонвизин 1959, 1: 52]. В первом явлении пятого действия, когда Иванушка заявляет ей, что «довольно видеть вас с батюшкою, чтоб получить совершенную аверсию к женитьбе», она восклицает: «Разве мы спустя рукава живем? То правда, что деньжонок у нас немного, однако ж они не переводятся». Она упрекает Иванушку в непонимании того, что «гривною в день можно быть сыту» [Фонвизин 1959, 1: 95].
Своего несчастья в браке бригадирша не скрывает. В первом явлении первого действия она говорит Иванушке: «Вы, конечно, станете жить лучше нашего. Ты, слава Богу, в военной службе не служил, и жена твоя не будет ни таскаться по походам без жалованья, ни отвечать дома за то, чем в строю мужа раздразнили. Мой Игнатий Андреевич вымещал на мне вину каждого рядового» [Фонвизин 1959, 1: 48]. Во втором явлении четвертого действия бригадирша расплакалась оттого, что муж назвал ее «свиньей и дурой». Она печально рассказывает Софье, что однажды бригадир «в шутку, потолкнул он меня в грудь… что я насилу вздохнула». Она говорит: «Этого еще не бывало, чтоб он убил меня до смерти», но боится, что когда-нибудь он ей «раскроит череп разом». Словесные и физические оскорбления мужа в свой адрес она объясняет его «крутым нравом» и армейскими привычками [Фонвизин 1959, 1: 84–85]. Свою супружескую жизнь она называет ужасной («худо-худо»), но при этом говорит Иванушке в первом явлении пятого действия: «Дай-то Господи, чтоб и тебе так же удалось жить, как нам» [Фонвизин 1959, 1: 96]. Она страдает в браке, но принимает страдания как часть естественного порядка вещей. Иными словами, она подчиняется бригадиру, потому что не знает, что можно вести себя иначе. Она уговаривает сына жениться, потому что не представляет себе другой жизни для него.
Из описания семейной жизни Фонвизиным становится ясно, что условием брака по расчету является подчинение молодых людей воле родителей. Бригадирша наставляет Иванушку в первом явлении пятого действия: «Наше дело сыскать тебе невесту, а твое жениться. Ты уж не в свое дело и не вступайся». На возражение Иванушки: «Как… я женюсь, и мне нужды нет до выбору невесты?» – бригадирша отвечает: «А как отец твой женился? А как я за него вышла? Мы друг о друге и слухом не слыхали. Я с ним до свадьбы отроду слова не говорила и начала уже мало-помалу кое-как заговаривать с ним недели две спустя после свадьбы» [Фонвизин 1959, 1: 96]. Подобное же слышит Софья от своего отца-советника в явлении первом второго действия: «Да разве дети могут желать того, чего не хотят родители? Ведаешь ли ты, что отец и дети должны думать одинаково?» Когда Софья говорит отцу, что в браке с Иванушкой она будет несчастной, потому что она не хочет подчиняться дураку, советник нетерпеливо заявляет: «Мне кажется, ты его почитать должна, а не он тебя. Он будет главою твоею, а не ты его головою. Ты, я вижу, девочка молодая и не читывала Священного Писания» [Фонвизин 1959, 1: 61–62].
И Софья, и Иванушка бросают вызов родителям: Софья молча надеется на Добролюбова, Иванушка открыто оспаривает власть бригадира. Поскольку комический потенциал пьесы и ее идеологический заряд обусловлены этим конфликтом поколений, важно понять, в чем заключается разногласие. Как явствует из пятого явления первого действия, Софья противится браку с Иванушкой, потому что осознает, что «мой жених ко мне нимало не ревнует», и убеждена, что ее любовь к Добролюбову «кончится с жизнию моею». Добролюбов уверяет ее, что их «любовь основана на честном намерении и достойна того, чтоб всякий пожелал нашего счастия» [Фонвизин 1959, 1: 59–60]. Иными словами, отношения Софьи с Добролюбовым основаны на искренней любви, в то время как связь с Иванушкой таковой быть не может. В первом явлении второго действия Софья говорит отцу, что разногласия между ними по поводу ее брака с Иванушкой, – это не просто различие мнений, а различие воль. Признавая свой долг повиноваться отцу, она тем не менее держит себя с ним, как ровня. Она отвергает попытки советника устыдить ее за несогласие с ним. Она говорит отцу, что Иванушка не будет его уважать, и выражает сомнение в том, что советник будет, как надеется, управлять имениями Иванушки [Фонвизин 1959, 1: 61–63].
Аргументы Софьи против брака с Иванушкой кажутся сегодня убедительными, потому что они самоочевидным образом взывают к дорогим нам ценностям: к необходимости взаимной любви в браке, к личной независимости женщины и мужчины, вступающих в брак. Однако в России Фонвизина ни взаимная любовь, ни личная независимость не считались определяющими для «удачного» брака. Гораздо большее значение для успеха брака имело приобретение собственности или перспектива распоряжаться ею. Здесь «изрядные деревеньки» Иванушки перевешивают Софьино воззвание к добродетели и разуму. Поэтому Фонвизин в итоге находит практический выход для решения судьбы Софьи: Добролюбов получает две тысячи душ по решению суда. В четвертом явлении третьего действия, узнав о новом богатстве Добролюбова, советник восклицает: «Две тысячи душ! О Создатель мой, Господи! И при твоих достоинствах! Ах, как же ты теперь почтения достоин!» [Фонвизин 1959, 1: 80–81]. В заключительных строках пьесы советник благословляет помолвку Софьи и Добролюбова и осуждает свой собственный прежний путь: «Говорят, что с совестью жить худо: а я теперь сам узнал, что жить без совести всего на свете хуже» [Фонвизин 1959, 1: 103]. В этой строке, казалось бы, одобряется добродетельное поведение Софии, но на самом деле в ней присутствует этическая двусмысленность, поскольку правильное поведение отождествляется с приобретением материальных благ26.
«Бунт» Иванушки против бригадира гораздо менее рационален и потому гораздо интереснее, чем бунт Софьи против советника. В третьем явлении первого действия Иванушка говорит советнице: «Я индиферан во всем том, что надлежит до моего отца и матери». И непоследовательно добавляет: «Вы знаете, каково жить и с добрыми отцами, а я, черт меня возьми, я живу с животными» [Фонвизин 1959, 1: 54]. В четвертом и пятом явлениях второго действия он смеется, увидев, как его отец, бригадир, признается в любви к советнице. Однако в шестом явлении второго действия, узнав, что бригадир решил всерьез добиваться ее взаимности, он подумывает вызвать отца на дуэль. Он читал во французской книге о дуэли отца и сына в Париже, и говорит советнице: «… а я, или я скот, чтоб не последовать тому, что хотя один раз случилося в Париже?» [Фонвизин 1959, 1: 70]. За этой глупой ремаркой следует самая запоминающаяся ссора в пьесе – перебранка бригадира с Иванушкой в первом явлении третьего действия. Иванушка говорит отцу, что заставлять его жениться на русской женщине – оскорбление, потому что «тело мое родилося в России, это правда; однако дух мой принадлежал короне французской». Он заявляет, что бригадир не имеет права устраивать такой брак, потому что «я такой же дворянин, как и вы, monsieur».
Он ни во что не ставит воинское звание отца и основывает свое собственное на том, что «был в Париже». Он сравнивает отца с диким зверем: «…а когда щенок не обязан респектовать того пса, кто был его отец, то должен ли я вам хотя малейшим респектом?» [Фонвизин 1959, 1: 72–74]. Таким образом, в качестве доводов против брака по расчету Иванушка использует как серьезные аргументы (отец, принуждающий взрослого сына к женитьбе, лишается его уважения), так и необоснованные логические посылки (поскольку люди – животные, они не должны уважать друг друга) наряду с мнимой логической связью (я в душе француз, но как русский дворянин я вам ровня). В сущности, Иванушка испытывает к отцу отвращение, а ненавидя отца, он презирает Россию. В ответ на ненависть сына бригадир отвечает непониманием, яростью, угрозами разбить ему лицо [Фонвизин 1959, 1: 74], обещанием – «разом ребра два у тебя выхвачу» [Фонвизин 1959, 1: 75] – и, наконец, желанием «поколотить» во втором явлении пятого действия [Фонвизин 1959, 1: 99]. Эти угрозы, опирающиеся на убежденность бригадира в своем праве принуждать непокорных «подданных», выражают самую суть отношений внутри дома, построенных на силе и произволе. Поскольку домохозяйства были основой российского государства, фонвизинское изображение разлада в семье бригадира указывает на более масштабное расстройство российской общественно-политической жизни.
Пьесу Фонвизина «Бригадир» нельзя назвать политической драмой в прямом смысле слова, но в ней содержится явный намек на природу российского государства. В пьесе речь идет о двух недавно вышедших в отставку чиновниках: бригадире, военный чин которого примерно соответствует бригадному генералу и занимает пятую строку сверху в петровской Табели о рангах, и советнике, который мог иметь любой чин от девятого [титулярный советник] до второго [действительный советник]. Вероятно, Фонвизин хотел изобразить двух чиновников сопоставимого ранга – военного и гражданского. Как мы уже отмечали, бригадир обладает холерическим темпераментом. Он высокомерен и уморителен в своем внимании к чинам: в первом явлении первого действия он замечает, что Бог должен особо считать волосы на голове чиновников пятого класса, ибо, «Как можно подумать, что Богу, который всё знает, неизвестен будто наш табель о рангах?» [Фонвизин 1959, 1: 50–51]. В свою помещичью жизнь бригадир привносит военное мировоззрение, сложившееся у него за время службы. Среди прочего это означает, что он воспринимает себя как командира своей семьи. В ходе бурного спора с Иванушкой в первом явлении третьего действия он говорит сыну: «…тебе забывать того по крайней мере не надобно, что я от армии бригадир» [Фонвизин 1959, 1: 73]. В четвертом явлении третьего действия он жестко порицает Иванушку за то, что тот не делает военной карьеры: «Где он (Иванушка) был? в каких походах? на которой акции?» [Фонвизин 1959, 1: 79]. Фонвизин исподволь подводит зрителя к пониманию российского государства как субъекта, влияющего на все аспекты жизни – от военного порубежья на юге до провинциального семейного очага в центре империи. На протяжении всей пьесы Фонвизин называет героев не по имени, а по чину (бригадир, советник) или его производным (бригадирша, советница), что свидетельствует о том, насколько глубоко в ткань общества проникла Табель о рангах, определяя социальные взаимодействия даже тех людей, которые уже не занимали государственных должностей.
Советник – судья в отставке. Он лишен интеллектуальной любознательности и, соответственно, имеет узкий кругозор: его представление о полезном чтении сводится к изучению межевых инструкций и военных уставов [Фонвизин 1959, 1: 48–49]. Создание имперской бюрократии, пропитанный ее духом, он холоден сердцем, скуп и коррумпирован. В третьем явлении первого действия его жена рассказывает Иванушке: «Муж мой пошел в отставку в том году, как вышел указ о лихоимстве. Он увидел, что ему в коллегии делать стало нечего, и для того повез меня мучить в деревню» [Фонвизин 1959, 1: 55]. Как мы видели, брак Софьи советник рассматривает как средство получить в распоряжение чужие земли. Бригадирша впечатляет его своей хозяйственностью, а Добролюбов – тем, что приобретает две тысячи душ. В шестом явлении третьего действия советник говорит жене, что только богатство имеет значение: «Две тысячи душ и без помещичьих достоинств всегда две тысячи душ, а достоинствы без них – какие к черту достоинствы» [Фонвизин 1959, 1: 81]. В этом же явлении, когда Добролюбов жалуется на повальное взяточничество судей, советник заявляет: «А я так всегда говорил, что взятки и запрещать невозможно. Как решить дело даром, за одно свое жалованье? Этого мы как родились и не слыхивали! Это против натуры человеческой…» [Фонвизин 1959, 1: 81]. Несмотря на выход в отставку, взгляды советника на человеческую природу не изменились со времен его судейства. Неприкрытая жадность и коррумпированность советника порождают ироническую ситуацию в третьем явлении пятого действия, когда он, наконец, осознаёт неверность жены. Он выговаривает ей: «Ты лишила меня чести – моего последнего сокровища». Верный себе, он грозит бригадиру иском, чтобы тот выплатил ему компенсацию за потерю чести: «Я все денежки, определенные мне по чину, возьму с него» [Фонвизин 1959, 1: 100]. В сознании советника честь – производная величина от ранга, но кроме того, имеет денежный эквивалент.
Несмотря на свои пороки, советник считает себя религиозным человеком. Вторя бригадиру, он говорит, что в России «все в руце Создателя. У него все власы главы нашея изочтены суть» [Фонвизин 1959, 1: 50]. Жене он хвастается: «Без власти Создателя и Святейшего Синода развестись нам невозможно» [Фонвизин 1959, 1: 100]. Только в конце пьесы он понимает, что Бог может быть не просто символической фигурой, придуманной для спокойствия действующих и бывших чиновников, и что жизнь без совести приводит к беде.
Таким образом, в «Бригадире» Фонвизина российское государство – это всепроникающая структура, которая определяет степень почета, полагающуюся чиновникам и отставникам, отравляет их семейную жизнь, институционализирует взяточничество, поощряет коррупцию и алчность в деревне, распространяет лицемерие и безбожие. Более того, как мы увидим ниже, Фонвизин считает, что государство несет косвенную ответственность и за глубокое смешение культур в стране, то есть за столкновение французских и русских ценностей, которое лежит в основе спора поколений, являющегося движущей силой комедии.
Бригадир и советник у Фонвизина малообразованны и поэтому не знают иностранных обычаев. Однако при этом сын бригадира жил в Париже, вероятно, на государственную стипендию, а советница изучала французский язык, как и положено жене чиновника. В чем же состоит их французское образование? В третьем явлении третьего действия Иванушка пытается объяснить отцу, чему он выучился за границей. Его ремарки, в основном бессвязные, вызывают неодобрение отца и, несомненно, смех фонвизинской публики. Но эти реплики несут явные признаки политических и культурных установок, отличных от бригадирских. Иванушка восхваляет французский индивидуализм («всякий отличается в нем своими достоинствами»), терпимость к чужакам («В Париже все почитали меня так, как я заслуживаю»), свободу выбора («Всякий, кто был в Париже, имеет уже право, говоря про русских, не включать себя в число тех, затем что он уже стал больше француз, нежели русский») [Фонвизин 1959, 1: 76–78]. В первом явлении пятого действия он утверждает, что у французов иные взгляды на брак и хозяйство, чем у русских. Ни один француз не вступит в брак по расчету, ни один француз не согласится «кушать наши сухари» [Фонвизин 1959, 1: 95–96]. Более того, в четвертом явлении пятого действия Иванушка заявляет, что французу «невозможно» сердиться на супружескую измену, так как у них такие поступки считаются «безделицей». Восхищение Иванушки французами в итоге сводится к двум простым утверждениям: во Франции люди свободны в той мере, какая недоступна в традиционалистской России, и там «люди-то не такие, как мы все русские» [Фонвизин 1959, 1: 77]. Иванушка отчаянно ищет слова, чтобы сказать отцу, что «выход» из русской отсталости в том, чтобы русские стали французами – если не телом, то душой. Бригадир, не понимающий своего блудного сына почти ни в чем, здесь осознает, что Иванушка отрекается от русских ценностей, и обещает: «Рано или поздно я из него французский дух вышибу» [Фонвизин 1959, 1: 79]. В противостоянии с блудным сыном бригадира постигает участь, нередкая для государственных чиновников XVIII века, которые служили русскому государству, даже при том, что оно поощряло «французские» ценности.
Между тем, как явствует из первого явления первого действия, старшие не могут понять «грамматику» или дискурс молодого, более космополитичного поколения. По мысли Фонвизина, по мере того как французские обороты речи проникали в русский язык, русские не только начинали использовать заимствованные слова в странных формах, но и теряли контроль над родным языком. Когда бригадирша, к своему ужасу, узнаёт, что советник признался ей в любви, она не может выразить эту мысль по-русски. Иванушка говорит ей: «Матушка, он с тобою амурится!» – высказывание, в котором французское слово amour образует корень неологизма «амуриться», возвратного глагола, который может означать как «говорить о любви» с кем-то, так и «заниматься любовью» с кем-то. Бригадирша отвечает: «Он амурится!» – смешная фраза, потому что без зависимого слова [«с тобою»] она буквально означает: «Он любит сам себя» [Фонвизин 1959, 1: 66]. Сбитая с толку бригадирша признается советнику: «Иному откроет [Господь] и французскую, и немецкую, и всякую грамоту, а я, грешная, и по-русски-то худо смышлю» [Фонвизин 1959, 1: 65]. Даже сам бригадир, решительный противник французских выражений и французской культуры, в четвертом явлении третьего действия допускает забавный неологизм, объясняясь с советницей: «Я хочу, чтоб меня ту минуту аркибузировали, в которую помышлю я о тебе худо» [Фонвизин 1959, 1: 78]. Россия Фонвизина – это место, в котором с пугающей комичностью рушится русская грамматика, а вместе с ней и понимание между людьми. В первом явлении первого действия все персонажи сходятся во мнении: «Черт меня возьми, ежели грамматика к чему-нибудь нужна, а особливо в деревне» [Фонвизин 1959, 1: 52–53]. Как и другие страны, раздираемые культурными противоречиями, фонвизинская Россия вызывает улыбку, смех, жалость, но также и понимающие, горькие слезы.
Читатели Фонвизина расходились во мнениях относительно того, насколько серьезно следует принимать его критику российского общества и государства. Его первый биограф, князь П. А. Вяземский, считал, что «Бригадир» – «более комическая карикатура, нежели комическая картина». Вяземский утверждал, что флирт между бригадиром и советницей, а также между советником и бригадиршей неправдоподобны, хотя «симметрия в волокитстве» несет в себе большой комический потенциал [Вяземский 1848: 205–206]. Вяземский также считает, что Фонвизин не стремился сделать то, что делают хорошие драматурги, то есть создать вымышленный мир и исследовать его противоречивые стремления. Фонвизин, как считает Вяземский, довольствовался тем, что помещал в свою пьесу персонажей, которых наблюдал в обществе или выдумывал, чтобы «расцветить кистью своею» [Вяземский 1848: 208–209].



