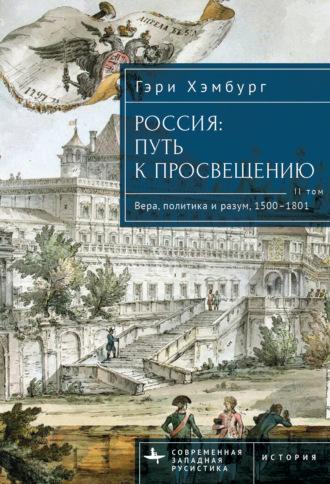
Ольга Терпугова
Россия. Путь к Просвещению. Том 2
Глава 9
Никита Панин и императорская власть
В 1762 году, вскоре после захвата власти Екатериной, граф Н. И. Панин (1718–1783) направил ей план по созданию Императорского государственного совета и разделению Сената на департаменты. Это предложение обещало стать самым масштабным структурным преобразованием центрального аппарата власти в России со времен петровских реформ. В течение какого-то времени Екатерина допускала возможность осуществления этого плана – вероятно, потому, что была обязана Панину за его помощь в свержении Петра III. В ее бумагах сохранился список из восьми человек, которых она предполагала ввести в состав императорского совета: «Граф Ал[ексей Петрович] Бестужев[Рюмин], граф Кир[илл Григорьевич] Разумовский, граф Мих[аил Илларионович] Воронцов, князь Яков [Петрович] Шаховской, Никита Иванович Панин, граф Захар [Григорьевич] Чернышев, князь Мих[аил] Волконский, Григорий Григорьевич Орлов». Императрица также рассматривала возможность назначить из числа этих восьми человек «первого советника», Бестужева-Рюмина11. Однако к октябрю 1763 года она решила отказаться от реализации плана Панина. Поскольку план был задуман в духе Просвещения и мог направить Россию по пути к конституционной монархии, его возникновение и окончательный отказ от него многое говорят нам о политике екатерининского времени.
Предложение Панина предполагало два существенных изменения в государственном устройстве. Во-первых, он предлагал учредить Императорский совет «в шести и до осми персонах», который собирался бы в присутствии государыни и обсуждал будущие законы. Во-вторых, он рекомендовал разделить Сенат, который был высшим судом России, но также и одним из ее важнейших органов контроля, на шесть департаментов: по внутренним политическим делам, апелляциям, коммерции, юстиции, военным делам, управлению провинциями [СИРИО 1867–1916, 7: 209–217].
Императорский совет должен был рассматривать «все дела, принадлежащия по уставам государственным и по существу монаршей самодержавной власти нашему [императрицы] собственному попечению и решению» [СИРИО 1867–1916, 7: 212]. В совет Панин предполагал включить четырех статских секретарей: иностранных дел, внутренних дел, военного департамента и морского департамента. Он также планировал включить в совет по меньшей мере двух секретарей без портфеля [СИРИО 18671916, 7: 211–212]. Четыре статских секретаря «с портфелями» должны были вести переписку с самодержицей и своевременно представлять отчеты с «точным сведением» по вопросам, находящимся в их сфере ответственности. В пределах своей компетенции статские секретари должны были выступать в качестве представителей монарха. По формулировке Панина, «…секретари должны быть нашею живою запискою рачительному государю принадлежащаго точнаго сведения о установлениях и состоянии всех вещей составляющих дела, порядок и положение государства всего, в чем каждый по своему департаменту и заимствует часть нашего собственного [монарха] попечения». Совет в целом должен был стать таким механизмом, «чтоб средством онаго сам государь мог объять все части государственныя под свое монаршее попечение для удобнейшаго в пользу общую законодательства». Императорский совет, по замыслу Панина, есть «не что иное, как то самое место, в котором мы [государыня и секретари] об империи трудимся…» [СИРИО 1867–1916, 7: 212].
Панин предложил проводить заседания Совета каждый будний день, кроме праздников. На заседаниях совета секретари должны были представлять вопросы на рассмотрение монарха, высказывать по ним свое мнение и приглашать к обсуждению других членов совета. При этом должен был вестись стенографический протокол обсуждения, подписываемый каждым участником заседания, что гарантировало бы его достоверность. Согласно статье 10 плана Панина, «всякое новое узаконение, акт, постановление, манифест, граматы и патенты, которые государи сами подписывают, должны быть контрасигнированы тем статским секретарем, по департаменту котораго то дело производилось, дабы тем публика отличать могла, которому оное департаменту принадлежит». Панин утверждал, что эта оговорка в статье 10 гарантировала, что «из сего императорскаго совета ни что исходить не может инако, как за собственноручным монаршим подписанием». В конце проекта Панин писал, что каждому статскому секретарю должна быть предоставлена «свободность» обсуждать с монархом новые императорские указы, «ежели они в исполнении своем могут касаться или утеснять наши государственные законы или народа нашего благосостояние». Согласно тексту проекта, государыня «конфирмует правом» ту самую «свободность», которую предоставил правительству Петр [СИРИО 1867–1916, 7: 214].
Представляя проект реформы Сената, Панин призывал, чтобы каждый из вновь создаваемых департаментов принимал решения в коллегии, состоящей «не меньше как из пяти сенаторов». Единогласные решения той или иной департаментской коллегии должны были «почитаться… равно как бы всем сенатом то учинено было» [СИРИО 1867–1916, 7: 215–216]. Любой важный вопрос, который не мог быть решен единогласно, передавался генерал-прокурору Сената, которому предписывалось при решении проблемы «поступать весьма осмотрительно» [СИРИО 1867–1916, 7: 216]. По замыслу Панина, обер-прокурор (глава департамента) был вправе попытаться разрешить спорный вопрос внутри департамента, однако разногласия между обер-прокурором и сенаторами или противоречия между сенаторами, оставшиеся неразрешенными после обсуждения в департаменте, должны были передаваться на обсуждение всего Сената. В этом случае генерал-прокурор имел право по своему усмотрению созвать полное собрание Сената для обсуждения и решить дело большинством голосов [СИРИО 1867–1916, 7: 215–216]. Правовые решения Сената «для всяких новых и в департаментах не трактованных еще государственных дел» должны были совершаться «по государственным уставам и в силе законов». Если же новаторские толкования полностью выходили за рамки положений действующего свода законов, то генерал-прокурор должен был доложить об этом самодержцу [СИРИО 1867–1916, 7: 216].
Таким образом, Панин предложил новое место для российского законотворчества (Императорский совет), новые процедуры принятия законов (составление проектов в ведомствах под руководством статских секретарей, официальное представление и обсуждение этих проектов в Императорском совете, подписание монархом и контрасигнирование статскими секретарями), новые процедуры рассмотрения возможных конфликтов между новыми и старыми законами («право» статских секретарей доносить государю о таких коллизиях). Панин также преобразовал сенат в орган, в котором сочеталась эффективность малых групп (коллегии из пяти человек), контроль одного администратора (генерал-прокурора или обер-прокурора) и широкое обсуждение (на пленарных заседаниях сената).
План Панина выходил далеко за рамки косметических изменений императорской бюрократии, но он не вводил разделения власти на самостоятельные ветви, как это предполагалось в работах Локка и Монтескьё, а также в «Комментариях к законам Англии» английского юриста Уильяма Блэкстона (1766–1770). Императорский совет Панина представлял собой законодательный орган, члены которого назначались монархом, заседания проходили в его присутствии, а решения не имели юридической силы, если не были подписаны государем; при этом каждый из статских секретарей совета «с портфелем» выполнял исполнительную роль в государственной бюрократии. В Сенате Панина смешивалась юридическая функция толкования законов с исполнительной функцией надзора за их исполнением. Таким образом, в Императорском совете и в Сенате исполнительные, законодательные и судебные функции скорее были намеренно смешаны, а не разделены.
Согласно проекту манифеста, представленному Паниным на подпись Екатерине, общая цель предлагаемого закона заключалась в укреплении государства, то есть в том, чтобы «непоколебимо утвердить форму и порядок, которыми, под императорскою самодержавною властию, государство навсегда управляемо быть должно» [СИРИО 1867–1916, 7: 210–211]. Как предполагалось, проект должен был обезопасить власть от людей, которые «стараются возлагать на счет собственнаго государственнаго самоизволения все то, что они таким образом ни производили» и избавить ее от пороков, «которые по временам внедривались во все течение правления» [СИРИО 1867–1916, 7: 205, 209]. Панин отмечал, что поспешно проведенные Петром реформы, несмотря на их масштабное влияние на Россию, оказались неспособны «привести к совершенству гражданское государственное установление». Преемники Петра пытались решить проблемы государства путем принятия краткосрочных мер, которые, «не получая силы прочности, переменою времен или сами упадали, или подвергались руководству припадочных и случайных людей». Панин сетовал, что при Елизавете государство управлялось «одними персонами и их изволениями без знаний и вне мест» [СИРИО 1867–1916, 7: 210].
В записке, сопровождавшей проект манифеста, Панин высказал более подробную критику существующего порядка. По его мнению, Сенат в его нынешнем составе был перегружен работой по надзору за исполнением законов. У его членов не было ни времени, ни желания помогать самодержцу в разработке законов; кроме того, законотворческая деятельность выходила за рамки его компетенции. Не обладал Сенат и компетенцией, позволяющей внести единство в государственное управление: сенаторы, как правило, полагались на мнение прокуроров и других чиновников относительно общей формы законодательной деятельности, так как по «слабости человеческой лени» не утруждали себя выработкой общего ви́дения законов. Сенаторы приезжали на заседания, «как гость на обед, который еще не знает не токмо вкусу кушанья, но и блюд, коими будет потчиван» [СИРИО 1867–1916, 7: 202–203].
Между тем предполагалось, что общую картину правового порядка должен был вырабатывать генерал-прокурор Сената, но ему было трудно справляться с ситуациями, когда сенаторы расходятся во мнениях, и их дела «подвергаются взаимному подрыву» [СИРИО 1867–1916, 7: 204]. Панин резко критиковал генерал-прокурора императрицы Елизаветы князя Никиту Трубецкого, который пришел к власти «по дворскому фаверу, как случайный человек… а потом сам стал быть угодником фаворитов и припадочных людей» [СИРИО 1867–1916, 7: 204]. При Елизавете, как писал Панин, из администрации исходили «сюрпризы и обманы, развращающие государственное правосудие, его уставы, его порядок и его пользу». Он утверждал, что закулисные методы управления не только обманывают народ, но и воспитывают у высокопоставленных чиновников, подобных Трубецкому, чувство, что они стоят над законом, почитая себя «неподверженным суду и ответу пред публикою, следовательно свободным от всякаго обязательства перед государем и государством, кроме исполнения» [СИРИО 1867–1916, 7: 205]. Наихудшими последствиями такой системы были разрушение доверия народа к правительству и изоляция государя от реального процесса управления страной [СИРИО 1867–1916, 7: 206]. Кабинетную систему управления, созданную при Елизавете после 1756 года для ведения войны в Европе, Панин назвал «монстром» [СИРИО 1867–1916, 7: 207]. В итоге Елизавета лишилась возможности управлять страной на ее благо и по собственному разумению. Панин обещал, что его проект «оградит самодержавную власть от скрытых иногда похитителей оныя» [СИРИО 1867–1916, 7: 208].
Панин представлял себя истинным приверженцем самодержавия, защитником системы от жадных, продажных и невежественных чиновников, которые с 1730 года вели правительство по ложному пути, прикрываясь своей верностью государыне. Если его целью была более добродетельная, более эффективная, более информированная администрация, а значит, более справедливая и более стабильная монархия, то его политическое ви́дение во многом совпадало с ви́дением Екатерины. Однако в проекте манифеста Панина и в сопроводительной записке были разбросаны идеи, которые указывали в другом направлении.
Во-первых, прикрываясь защитой самодержавия, Панин, казалось, критиковал все аспекты его деятельности на протяжении последних трех четвертей века. По мнению Панина, Петр I реформировал московскую политическую систему поспешно, не заложив прочной основы. Результатом стал хаос в высшем руководстве, череда фаворитов и «случайных людей» на руководящих постах, а также потенциальная дестабилизация всей страны. Во-вторых, Панин, по-видимому, с подозрением относился к самой логике самодержавного правления, по которой огромным государством управляет один человек. Когда Панин критиковал сенатских прокуроров за незнание законов и недальновидность, когда он нападал на произвол и коррумпированность высших чиновников, он исходил из подверженности любого руководящего лица ошибкам: один человек не может знать всего, и любой склонен к произволу и пороку при отсутствии контроля со стороны другой власти.
В-третьих, Панин не доверял православной церкви как противовесу монарху. Действительно, ни в проекте манифеста, ни в обосновывающем его меморандуме он не упоминает о роли Церкви как советника государя по нравственным вопросам, не подчеркивает необходимость особого отношения к Церкви в Императорском совете или Сенате. Такое молчание в отношении этого важного института было крайне редким в допетровской России и необычным даже в послепетровскую эпоху. Конечно, игнорирование Церкви как существенного политического фактора не означало, что Панин был готов вообще не обращать внимания на религию как составляющую русской жизни. В проекте манифеста он вложил в уста Екатерины заверение о ее долге «пред Богом» и о ее решимости «с помощию Всевышняго» исправить недостатки российского управления [СИРИО 18671916, 7: 210]. Но в документе, где государственный интерес (Staatsraison) утверждался как движущая сила правительства, это были всего лишь шаблонные фразы. В меморандуме Екатерине Панин характеризовал ее «право самодержавства» как «Богом и народом врученное» [СИРИО 1867–1916, 7: 208]. Эта поразительная формулировка, в которой сочетались традиционное христианское обоснование власти (божественное помазание) и концепция народа как источника власти, скорее подрывала самодержавие, чем поддерживала его.
В-четвертых, Панин выступал за власть, подотчетную «обществу» (для обозначения этой группы он использовал латинский термин publica). Именно поэтому он стремился связать монарха определенными юридическими процедурами при принятии законов. По плану Панина, ни один закон не мог вступить в силу без подписи монарха и контрасигнации ответственного статс-секретаря. Это положение, по всей видимости, давало статс-секретарю полномочия, равные монаршим, при принятии законов, касающихся его полномочий. Панин также хотел предоставить статс-секретарям «право» или «свободность» инициировать обсуждение потенциальных конфликтов между новыми и существующими законами, а также конфликтов между новыми законами и общественными интересами. Не является ли это положение его плана аналогом права на протест, которым пользовался Парижский парламент? И требование контрасигнации законов, и право на протест наделяли статс-секретарей беспрецедентной в истории России мерой ответственности перед обществом за свои законодательные инициативы и политические решения.
В-пятых, оговорку Панина о том, что государственные секретари должны «заимствовать» часть ответственности за политику монарха, можно истолковать не только как безобидное описание функции чиновника как исполнителя монаршей воли, но и как заявление о необходимости передачи власти от монарха к доверенным лицам. Если замысел Панина именно таков, то его план можно трактовать как проект замены самодержавия коллективным правлением нескольких советников, ответственных перед обществом.
Обычно Панина понимают как поборника интересов знатных российских семей, как «олигарха» или «аристократа», который, не добившись от Екатерины одобрения своего проекта, перешел в политическую «оппозицию», объединившись с великим князем Павлом. Однако Дэвид Рэнсел убедительно доказывает, что знать екатерининского времени не была политически цельной силой. По мнению Рэнсела, императорский двор был местом соревнования между группировками приверженцев ведущих представителей знати [Ransel 1975: 4–6; Ransel 1969: 9–65]. Семья Паниных не принадлежала ни к титулованной аристократии, ни к богатейшей знати, но, скорее, к среднему слою дворянства: его отец Иван Васильевич имел 400 крепостных крестьян, что было достаточно для безбедной жизни, но далеко отстояло от огромных владений семей Шереметевых, Шуваловых, Воронцовых [Ransel 1975: 10]. Панин выдвинулся не благодаря своему происхождению, а благодаря заслугам на государственной службе. Его образование его было скорее практическим, чем книжным. При Анне Иоанновне он служил в Императорской конной гвардии и в течение года (1747–1748) был русским послом при датском дворе. «Прорыв» Панина произошел в 1748 году, когда канцлер Бестужев-Рюмин направил его в Стокгольм в качестве посла. Там он находился 12 лет, изучая внутриполитические распри шведов и используя свое влияние, чтобы удержать Швецию от союза с Францией против России. Панину как-то удалось убедить Бестужева-Рюмина в том, что он достаточно эффективно отстаивает интересы России; но при этом он был достаточно независим от канцлера, чтобы не заслужить репутацию одной из «креатур» Бестужева-Рюмина. Поэтому Панин избежал опалы в 1756 году, когда настроения при дворе обернулись против канцлера. Весной 1760 года Панин вернулся в Петербург и стал воспитателем юного великого князя Павла.
Рэнсел показал, что деятельность Панина в Дании и Швеции убедила его в жизненной важности дворянства для здоровой монархии. Панин пришел к убеждению, что в хорошо устроенном государстве дворянам должна быть гарантирована неприкосновенность их титулов, привилегий и личности. Нет никаких свидетельств того, что Панин стал в Швеции «тайным» республиканцем; скорее, он стал поборником смешанной монархии, в которой интересы образованной публики если не учитываются, то уважаются [Ransel 1975: 27–33]. В то же время Панин с тревогой смотрел на политическую разобщенность шведской элиты. Он понимал, что дворяне, если они хотят играть достойную роль в общественной жизни, должны научиться действовать согласованно друг с другом, не уступая монарху своей политической автономии.
Главным источником интеллектуального вдохновения для Панина в эти годы был трактат «О духе законов» Монтескьё, в котором доказывалось, что в правильно организованной монархии политически активное дворянство является необходимым противовесом монаршей власти. Панин был полностью согласен с Монтескьё в том, что при отсутствии «посредствующих каналов» власти, в которых преобладает дворянство, монархия вырождается в деспотию. Когда «Дух законов» подвергся нападкам со стороны юриста Ф. Х. Штрубе де Пирмонта, который в своей книге «Русские письма» (1760) порицал Монтескьё за то, что тот отнес Россию к деспотическим государствам, Панин в этом споре встал на сторону Монтескьё [Ransel 1975: 47–54]12.
Однако при объяснении замысла Панина не следует ограничиваться только его дипломатическим опытом или чтением Монтескьё: он испытал также и русское влияние. Панин знал о попытке Д. М. Голицына в 1730 году навязать Анне Иоанновне «кондиции», согласно которым ее партнером по управлению государством должен был стать Верховный тайный совет13. Панину также было известно об аресте в 1740 году А. П. Волынского и о его проекте реформ, в котором тот предлагал создать двухпалатный законодательный орган во главе с дворянством. Рэнсел отмечает, что «позднейшие предложения Панина имели много общего с предложениями Волынского, и Панин не раз выражал сильное сочувствие и восхищение по отношению к деятельности Волынского» [Ransel 1975: 13–15]. Вероятно, надежды Панина на будущее общество, управляемое просвещенным монархом и добродетельными дворянами, поощрял публицист, драматург и политический деятель А. П. Сумароков. В своей повести «Сон – счастливое общество» (1759) Сумароков даже упоминает о возможности создания законодательного совета, правящего вместе с монархом на благо народа [Сумароков 1957: 738, 755, 757, 768; Малышев 1961: 354–357; Ransel 1975: 56]14. Вероятно, чтение Монтескьё и Сумарокова, а также дипломатический опыт Панина обострили его презрение к придворным фаворитам елизаветинской эпохи. Письменная речь Панина, обычно спокойная по тону, становилась эмоционально резкой, когда он рассуждал о коррупции во времена предыдущих царствований. Если добавить ко всему этому амбиции Панина, стремившегося стать ведущим министром при Екатерине, то причины составления им плана реформ императорского совета станут вполне определенными.
Однако что же делать с противоречием между двумя несопоставимыми «ви́дениями», содержащимися в проекте Панина – показным отстаиванием более сильного и эффективного самодержавия и подспудной концепцией ограниченной монархии в партнерстве с уверенным в себе, искушенным дворянством в Императорском совете? Изабель де Мадарьяга, пожалуй, самый проницательный аналитик екатерининской России, утверждает, что реальным намерением Панина было ограничение, а не укрепление самодержавной власти, и что Екатерина хорошо поняла цель Панина. Де Мадарьяга прямо пишет: «Трудно поверить, что императрица, хорошо знакомая с европейской политической литературой, не уловила опасности для своего абсолютного правления, скрытой в его [Панина] плане» [Madariaga 1981: 42]15. Если это правда, то Панин более серьезно, чем императрица, отнесся к идеям власти, основанной на народном согласии, ответственном управлении и смешанной монархии. Провал плана Панина показал, что просвещенная политика по версии Екатерины не предполагала ограничения самодержавной власти. Ее план заключался в построении унитарного, дирижистского государства, в котором понятия веротерпимости, правосудия, свободы выражения поддерживались на словах, но не претворялись в жизнь.



