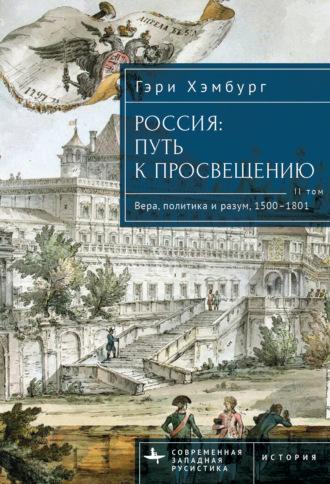
Ольга Терпугова
Россия. Путь к Просвещению. Том 2
Такая развязка не была нетипична для драм Сумарокова, где герои обычно кончали жизнь самоубийством. Наложение рук на себя и последовавшее духовное самоубийство Димитрия говорят в пользу того, что настоящим наказанием за тиранию драматург считал вечные адские муки. Но подобное «решение» проблемы тирании Сумароковым оставило без ответа политические вопросы. Что делать, если тиран действительно наглый безбожник, о чем в первом действии подозревают простые люди? Разве не будет такой неправедный правитель упорствовать в злодеяниях, поскольку страха перед загробной жизнью у него нет? И даже если злодей осознаёт перспективу вечных мук, как Димитрий в пятом действии, может ли эта перспектива изменить его политическое поведение к лучшему? По собственной логике Сумарокова, разве не будет он упорствовать в неправедном правлении до тех пор, пока его не свергнут посредством революции снизу? Разве столь удачно случившееся в пятом действии самоубийство не маскирует того факта, – который Сумароков не хотел признавать, – что в его воображаемом царстве главным героем является простой народ?
В «Димитрии Самозванце» Сумарокова мы видим грозный, но неудовлетворительный ответ на «Наказ» Екатерины и отстранение от работы Уложенной комиссии. Своей драмой Сумароков действительно давал императрице понять, что разочарован ее неспособностью законодательно защитить образованные слои россиян от произвола, но в то же время обнажил противоречивость своей политической философии. Его благородные герои порицали тиранию, но не были готовы без колебаний устранить тирана. Они признавали обязанность во всем повиноваться правителю, но рассуждали при этом о естественной свободе. Они принижали простой народ, но рассчитывали, что он совершит то, на что они сами неспособны. Благодаря своему возвышенному настрою пьеса была прекрасно принята в театре – «Димитрия Самозванца» продолжали ставить до конца века. Однако маккиавеллизм в ней противоречил авторской теории добродетели. Какими бы ни были ее недостатки, пьеса указала на разрыв между Сумароковым и его царственной покровительницей. Как отмечает литературовед Е. П. Мстиславская, «к концу 1768 – началу 1769 г. относится время разочарования Сумарокова в политике Екатерины II», – то есть сразу после того, как императрица не оправдала его надежд на реформирование политического строя [Мстиславская 2002a: 26]6.
Второй ответ Сумарокова на «Наказ» и роспуск Уложенной комиссии можно найти в «Одах». Между 1755 и 1775 годами Сумароков опубликовал 33 оды по торжественным поводам. После его смерти издатель Н. Новиков переиздал их во втором томе собрания сочинений Сумарокова [Сумароков 1781: 3–154], однако еще при жизни, в 1774 году, Сумароков напечатал 30 од. Мстиславская, проведя исследование политического содержания од, назвала их важным источником по истории XVIII века; она даже утверждала, что «книга Сумарокова “Оды торжественные” представляет нам поэта как первого русского историографа, воссоздавшего картину историко-политического процесса в России XVIII века» [Мстиславская 2002б: 69–70]. По мнению Мстиславской, издав в 1774 году оды с I по XXX, Сумароков сократил те, что были посвящены «Наказу» Екатерины (оды XIV–XVI) и Уложенной комиссии (оды XV–XX), прежде всего опустив строки с безоговорочными восхвалениями императрицы и описанием ее политических инициатив. В то же время Сумароков сохранил те фрагменты од, в которых была сформулирована его собственная просвещенческая политическая программа [Мстиславская 2002б: 63–65]. В оде XXVIII, адресованной в 1774 году молодому наследнику Павлу, Сумароков создал образ идеального князя, который «не гордясь ничем вовек, / Он больше о себе не мыслит, / Льстец мерзкий что б ему ни рек. / Великий муж не любит лести». Идеальный князь, как утверждал Сумароков, «тверд во правде пребывает, / И крайне мерзостен народ, / Который правду забывает» [Сумароков 1781: 138–140]. Хотя Екатерине в этой оде досталась скупая похвала как «Минерве», в целом ода свидетельствовала о принадлежности Сумарокова к придворной «партии» Павла.
Издание «Од» 1774 года также представляло своего рода отклик Сумарокова на «Наказ» Екатерины, и этот отклик она восприняла более болезненно, чем пьесу «Димитрий Самозванец». Она читала первоначальную редакцию «Од» и поэтому не могла не заметить изменений, которые Сумароков внес в издание 1774 года, чтобы продемонстрировать свои сомнения по поводу ее политических намерений. 4 января 1775 года она в гневе приказала цензорам Академии наук проверять все дальнейшие сочинения Сумарокова [Мстиславская 2002б: 40]7.
Прежде чем оставить вопрос о Екатерине как о политическом мыслителе, следует вспомнить еще о трех ее проектах в этой сфере: покровительство сатирическому журналу «Всякая всячина» (1769–1770), «Записки касательно Российской истории» (1787–1794), а также антимасонскую кампанию в публицистике 1780-х годов.
Из всех этих предприятий наиболее известна ее роль как главного покровителя (и, возможно, автора) «Всякой всячины». После роспуска Уложенной комиссии в 1769 году Екатерина учредила журнал «Всякая всячина», поручив его надзору своего личного секретаря Г. В. Козицкого. По мнению советского литературоведа Д. Д. Благого, инициатива императрицы была следствием политических обстоятельств, когда «каждый из борющихся классов стремился использовать оружие сатиры в своих целях… Екатерина… предприняла хитро задуманную попытку подчинить себе эту силу, прибрать ее к рукам, направить по определенному, соответствующему ее политическим видам руслу» [Благой 1955: 227]. По мнению Благого, взявшись за издание «Всякой всячины», Екатерина «на самом деле преследовала цель погасить сатиру, всячески притупить ее общественно-политическую остроту, отвести ее от конкретных явлений русской социальной действительности, подменив моралистическими общими местами, школьными прописями, направленными против так называемых общечеловеческих недостатков [Благой 1955: 231]. Благой отметил, что тон, а иногда и содержание «Всякой всячины» были «прямым заимствованием» из журнала «Зритель» Аддисона и Стила.
По мнению Благого, главной политической задачей «Всякой всячины» была попытка оправдать решение императрицы о роспуске Уложенной комиссии и возложить вину на самих депутатов: в иносказательной «Сказке о кафтане» Екатерина порицала «портных» (депутатов), которые «вместо того чтобы сшить “мужику” кафтан из данного им на то “сукна” (очевидно, имеется в виду пресловутый “Наказ”), начали спорить о его покрое» [Благой 1955: 231–232]. Кроме того, во «Всякой всячине» предпринималась попытка задать жесткие параметры русской сатире, фактически деполитизировав ее. Так, в письме в редакцию, опубликованном в выпуске 53, псевдонимный корреспондент «Афиноген Перочинов» кратко изложил правила исправления человеческих пороков: «1) никогда не называть слабости пороком, 2) хранить во всех случаях человеколюбие, 3) не думать, чтоб людей совершенных найти можно было, и для того 4) просить Бога, чтоб нам дал дух кротости и снисхождения» [Благой 1955: 236]. Благой признавал, что со временем во «Всякой всячине» появились нападки на взяточников и недальновидных чиновников, но объяснял эти действия давлением других сатирических журналов, в частности «Трутня» под редакцией Николая Новикова.
Мнение Благого о «Всякой всячине» заслуживает внимания как типичный пример стратегии осмеяния и неприятия журнала как прогрессивными дореволюционными критиками, так и учеными советского времени. Однако, каковы бы ни были литературные достоинства журнала, «Всякая всячина» реализовала одну из ключевых стратегий Екатерины – использование культурных инициатив для подготовки умов россиян к реформам, вписывающимся в русло умеренно-политических воззрений Просвещения. Одним из примеров такой стратегии был «Наказ» с его либеральными заимствованиями у западных мыслителей, другим – «Всякая всячина» с ее «заимствованиями» из «Зрителя». Во «Всякой всячине» Екатерина пыталась убедить своих небезупречных подданных становиться лучше, глядясь в «западное» зеркало. Ее замысел заключался в искусственном создании публичного пространства, состоявшего из «Всякой всячины» и конкурирующих журналов, в котором императрица за спиной Козицкого, анонимных авторов и корреспондентов под псевдонимами, смогла бы дискутировать со своими подданными как «частное» лицо. Эта литературная тактика, в которой важную роль играли анонимность и возможность правдоподобно отрицать свою причастность, требовала от императрицы невиданного для российской государыни акта самоотречения. Пусть Петр Великий и работал бок о бок с простыми плотниками и кораблестроителями, но он никогда не подвергался настолько резкой критике, которую императрица выносила от других сатириков, находясь за спиной своих подручных. Эксперимент Екатерины требовал огромного самообладания, которое нечасто было присуще российским самодержцам8. Еще более важным, чем акт самоотречения, был сам творческий прием – основание сатирического журнала и призыв к подражанию, направленный на создание сферы общественной мысли «сверху».
Несмотря на мнение Д. Благого, мы считаем, что инициатива Екатерины была направлена на то, чтобы в «новом» публичном пространстве сатирических журналов продолжить дискуссию о крепостном праве, начатую в Уложенной комиссии. Ее аллегорическую «Сказку о кафтане» можно прочесть также как сказку о крепостном праве, в которой мораль состояла в том, что «портные» должны бы сшить крестьянину новый кафтан, пока он не замерз на улице. Она надеялась, что сказка напомнит русским дворянам об их этических обязанностях перед крестьянами. Она не позволила бы публикацию сказки, если бы не осознавала, что она запустит новый виток дискуссии в конкурирующих журналах. На этом этапе у Екатерины, вероятно, не было конкретной законодательной программы, кроме той, которая была четко сформулирована в «Наказе» – а именно, обеспечить исполнимость закона Петра против жестокого обращения с крепостными – похвальная, хоть и ограниченная, цель. Между тем приписывать, подобно Благому и иже с ним, одному Новикову первенство в постановке вопроса о крепостном праве перед лицом «реакционного» режима – значит не понимать пафоса позиции Екатерины и не отдавать должное ее незаурядному политическому воображению.
Прежде чем оставить тему императрицы как журналиста, следует обратить внимание на ценное замечание Иоахима Клейна о том, что екатерининская «Всякая всячина» и конкурирующие журналы, редактируемые Николаем Новиковым, опирались не только на английские образцы, такие как «The Spectator» («Зритель»), но и на немецкие – так называемые Moralische Wochenschriften, или «нравоучительные еженедельники». По мнению Клейна, журнал Екатерины, как и немецкие еженедельники, преследовал дидактические цели – наставить читателей в правилах добродетельной жизни, в любви к добру и отвращении к злу. Более того, как и в немецких еженедельниках, во многих статьях «Всякой всячины» использовалась диалоговая форма для вовлечения читателя в активное общение с морализирующими авторами журнала. Клейн считает, что, хотя метод воспитания активной читательской аудитории, позаимствованный Екатериной у немцев, был известен уже давно, сама диалоговая модель, в которой создавалась «атмосфера игривого вымысла и веселой анонимности, атмосфера коммуникативной непринужденности и свободы», была для России чем-то новым [Клейн 2006: 155].
По мнению Клейна, игривый дух «Всякой всячины» не соответствовал «утопическому» замыслу журнала – скорейшему искоренению порока в читающей публике. Он приводит заметку редактора, в которой тот заявляет: «Мы не сомневаемся о скором исправлении нравов и ожидаем немедленно искоренения всех пороков» [Клейн 2006: 157]. По мнению Клейна, ожидания редактора основаны на представлении о том, что порочное поведение человека – это результат неправильного воспитания. Эту проблему Екатерина собиралась исправить не только посредством строительства школ, но и путем передачи читающей публике «моральной информации», необходимой для добродетельной жизни. Редактор «Всякой всячины» исходил из того, что знание ведет к добродетели, а невежество – к пороку. Редактор предсказывал, что распространение знаний и добродетели среди читающей публики вскоре приведет к появлению добродетельных должностных лиц: «…если в должностях употребляемы будут люди с воспитанием и со знанием, менее услышим о корыстолюбии» [Клейн 2006: 159]. По мнению Клейна, концепция добродетели, положенная в основу «Всякой всячины» и других журналов, опиралась не только на православные представления о благочестии, но и на философские представления о счастливой жизни [eudaimonia], разработанные в античности и возрожденные в XVIII веке. Клейн, однако, утверждает, что из-за акцента на добродетельном поведении не в монастырях, а в гостиных и в правительстве концепция добродетели журнала «Всякая всячина» приобретала скорее «мирской», чем чисто религиозный характер. «В России, – отмечает Клейн, – слово “добродетель” было известно из церковнославянской письменности, но в XVIII в. оно наполняется новым содержанием в соответствии с секуляризационными тенденциями петровской и послепетровской России, превращаясь в эквивалент английского virtue и немецкого Tugend» [Клейн 2006: 161].
Интерпретация Клейна согласуется с мнением лингвиста В. М. Живова, который предположил, что в своем журнале императрице удалось создать новую форму просветительского дискурса: «Выворачивая французские просвещенческие концепции наизнанку, Екатерина устраняет из них главенство закона. Его место занимает “доброе сердце” императрицы». Эта позиция «удобно располагает к определенному авторитаризму, приобретающему оттенок домашнего и терпимого» [Живов 2007: 264–265]. По мнению Живова, Екатерина проводила эту стратегию систематически. Знаменитое письмо Афиногена Перочинова, о котором шла речь выше, призывало читателей думать не о выкорчевывании глубоко укоренившихся пороков, а об исправлении понятных человеческих слабостей. В другом номере «Всякой всячины» было опубликовано стихотворение, в котором Петр I противопоставлялся Екатерине. В заключительной строке поэт заявляет: «Петр дал нам бытие, Екатерина душу». Из стихотворения следовало не только то, что Екатерина важнее Петра (поскольку душа важнее бытия), но и то, что она, в отличие от Петра, осознала приоритет национальной культуры над политикой [Живов 2007: 254–258]. Во «Всякой Всячине» также было напечатано письмо от имени «Патрикия Правдомыслова», начальные пассажи которого написала сама Екатерина. В письме Правдомыслов наставляет читателей: «Желательно было бы, чтоб мы всегда свои дела судили сами по истинне: и тогда бы ябеда и прихоти исчезли; следовательно меньше бы жалоб было на неправосудие». «Любезные сограждане! Перестанем быть злыми, не будем имети причины жаловаться на неправосудие» [Всякая всячина 1769–1770: 279–280; Живов 2007: 263]. Основываясь на внимательном прочтении «Всякой всячины», Живов утверждает, что «противоположение законов и нравов позволяет Екатерине снять с себя ответственность за беззаконие… Развращение идет не от системы и не от правительства, а от дурных нравов». Поэтому главная обязанность императрицы заключается не в издании хороших законов, а том, чтобы подавать добрый пример подданным [Живов 2007: 263–264].
Возможно, Клейн и Живов правильно поняли намерение Екатерины создать общественный дискурс, в котором этическая деятельность по формированию индивидуального поведения изначально превалировала бы над политической деятельностью по созданию лучших законов для России, но мы должны добавить три замечания. Во-первых, сосредоточившись на изменении личного поведения, Екатерина фактически переключила внимание на религию, а точнее, подчеркнула ее значение в общественном дискурсе. Подобно тому, как русская редакция ее «Наказа» начиналась с молитвы и требовала, чтобы родители обучали детей основам православия, так и «Всякая всячина» возводила нравственное воспитание в центр имперской повестки. Даже если, как полагает Клейн, понятие добродетели, транслируемое во «Всякой всячине», было шире московского православного понятия о благочестии, само использование императрицей этого термина и распространение его на новые сферы общественного поведения скорее укрепляло, чем подрывало авторитет православных наставлений. Во-вторых, утверждая, что ее главная обязанность – подавать хороший пример подданным, Екатерина вызвала к жизни прежние православные представления о долге правителя, но при этом постаралась обезопасить от их влияния свой престол, указав на то, что человеческие слабости следует исправлять мягко, беспрекословно повинуясь при этом монарху. В-третьих, поощряя существование культурной сферы, в которой писателям приходилось умещаться в рамках нравоучительного жанра, Екатерина приглашала других авторов подражать ей, но при этом волей-неволей склоняла их проверить установленные ею границы на прочность. Как мы увидим ниже, самые смелые из этих писателей сразу же попытались обойти ее мягкий «запрет» на политические дискуссии. Таким образом, своими сознательными усилиями по созданию деполитизированного пространства для обсуждения вопросов национальной культуры императрица невольно подтолкнула других писателей к попыткам явно либо тайно вернуть политику в российский дискурс.
Интерес Екатерины к русской истории, вероятно, возник еще до ее восшествия на престол. Первый том «Истории Российской империи при Петре Великом» Вольтера вышел в 1759 году, за три года до ее прихода к власти. К концу 1760-х годов Академия наук с ее одобрения опубликовала важнейшие памятники допетровской истории: Никоновскую летопись, «Русскую правду» Ярослава Мудрого, «Судебник» Ивана IV. В 1770 году вышел труд М. М. Щербатова «История российская от древнейших времен», а в 1773 году Новиков при содействии Екатерины начал издание летописей под названием «Древняя российская вивлиофика». Однако увлечение Екатерины русской историей было обусловлено не только ее личным интересом к предмету или абстрактным представлением о царском долге. В 1768 году, после публикации заметок французского путешественника, критиковавшего российский строй, Екатерина решила ответить иностранным критикам России, как прошлым, так и современным.
В путевых заметках аббат Шапп д’Отрош сообщал, что с 861 по 1598 год русскими управляла одна семья, «ценой вольности народной. Летописи и все историки изображают нам народ, управляемый деспотами» [Chappe d’Auteroche 1768, 1: 110]. В опровержение Екатерина анонимно опубликовала 300-страничное произведение «Антидот» (1770), где назвала характеристику России Шаппа д’Отроша несправедливой. Она спрашивала:
Что вы подразумеваете под этим одиозным словом «деспот», которое постоянно употребляете? Неужели вы каждого правителя России называете тираном? Но помимо неуважения к их памяти, Вы лжете… Опыт доказывает, что в течение семисот лет правительство России хорошо ей служило; страна возрастала в силе и средствах; кроме того, все это время ее подданные были довольны монархией, которая единственно может существовать в огромной империи.
Кроме того, Екатерина добавила: «До смерти царя Федора Ивановича в России царили практически такие же нравы, что и у всех других европейских народов» [Екатерина II 1901–1907, 7: 81–82]9.
Погрузившись в полемику в защиту допетровской Руси, Екатерина присоединилась к дебатам о древней и современной России, которые велись со времен выхода первого тома книги Вольтера, посвященной Петру, в которой допетровская Россия описывалась как варварская страна без законов. Как показал Ю. В. Стенник, эта дискуссия, в которой участвовали И. Н. Болтин, Щербатов и целая плеяда европейских историков, побудила Екатерину в 1783 году начать писать собственную историю России [Стенник 1997: 7–48]. Поскольку у нее не было времени для самостоятельной архивной работы, она поручила группе помощников собрать материалы для своего труда под названием «Записки касательно Российской истории». По ее замыслу, «Записки» должны были стать еще одним «противоядием негодяям, уничижающим историю России, таким как врач Леклерк и учитель Левек, оба скоты, и, не прогневайтесь, скоты скучные и гнусные» [Екатерина II 1878: 88; Стенник 1997: 18].
В «Записках» Екатерина разделила русскую историю на пять периодов: Россия до Рюрика; от Рюрика до татарского нашествия; татарское иго с 1224 по 1462 год; Россия от изгнания татар до основания династии Романовых в 1613 году; Россия с 1613 года и далее [Екатерина II 1901–1907, 8: 8]. Ее непосредственной задачей было представить древних славян цивилизованным народом. Поэтому она утверждала, что еще до пришествия Христа они были грамотными, но их письменность была утеряна. Тем не менее она признавала: «Славяне более к воинской службе прилежали, нежели к наукам и художествам» [Екатерина II 1901–1907, 8: 12]. Повествуя о князе Владимире, Екатерина пишет, что «двор его был великолепный», что он построил «города и народные здания», привлекал в Россию «ученых людей, науки, художества и храбрых богатырей отовсюду» [Екатерина II 1901–1907, 8: 75]. Такое изображение Владимира напоминало Петра Великого. Излагая историю обращения Владимира в христианство, Екатерина обратила внимание на стоявший перед ним политический выбор, на то, что «во время крещения отпаде яко чешуя от очей его, и прозрел», на его добродетели после крещения. Таким образом, Екатерина восхваляла как традиционное православное благочестие, так и политическую мудрость, то есть именно такое сочетание религии и политики, которое она преследовала в 1780-е годы [Екатерина II 1901–1907, 8: 75–83].
Повествуя о татарском нашествии, Екатерина подчеркнула, что «надлежало Князем Руским иметь любовь, мир и согласие между собою». Причиной междоусобицы она считала княжеское честолюбие и «злых льстецов», которые говорили каждый своему князю: «Тебе достоит земля Руская и Киевом владети». Эти льстецы и клеветники завели князей «к неправедным войнам и пролитию крови и погублению людей, Государству нужных» [Екатерина II 1901–1907, 10: 194]. Далее Екатерина обвиняет татар в том, что они «много зла» сотворили христианам и Русской земле: «Князей и сановитых людей изсече, православному народу тяжкое бремя наложи, младенцы от матери отымая, брачных жен разлучая от мужей, юных дев оскверняя» [Екатерина II 19011907, 10: 231]. Здесь императрица играет на патриотических, религиозных и семейных ценностях, противопоставляя православных русских неверным захватчикам. Она обращала внимание на мужество русских во время татарского ига, восхваляя, например, «христианскую твердость» великого князя Михаила Черниговского [Екатерина II 1901–1907, 10: 253]. К сожалению, Екатерина не успела завершить свою «Историю». Опубликованная рукопись обрывается после победы татар в XIII веке. До нас дошли также неопубликованные записи, в которых повествование ведется сразу после победы русских на Куликовом поле в 1380 году, но в них императрица не излагает тех уроков, которые современники должны были извлечь из ее истории.
Если считать, что целью написания «Записок» было опровержение клеветнических измышлений иностранцев о политике Древней Руси, то можно считать, что труд Екатерины удался, хотя бы отчасти: ни один здравомыслящий читатель «Записок» не подумает, что череда правителей после Рюрика состояла из одних деспотов. По другим меркам «Записки» были провальной работой. В этих размышлениях на тему истории не хватает критической оценки первоисточников; много заимствований без указания авторства из других работ по русской истории, в том числе целые пассажи из труда Татищева; повествование упорно и тяжеловесно следует за династической линией. Что хуже всего – если обратиться к книге в надежде на проникновение в суть отношений между русским народом и государством, то на каждой странице вас ждет разочарование. А поскольку рукопись заканчивается на катастрофе татарского нашествия, читатель вправе задаться вопросом, принесло ли государство народу хоть какую-либо пользу. «Записки касательно русской истории» производят впечатление громоздкого конспекта, составленного неумной комиссией под весьма рассеянным надзором императрицы. По сравнению с этой карикатурой на историческое сочинение «скоты скучные и гнусные» Леклерк и Левек смотрятся намного выгоднее.
В 1780 году Екатерина предприняла первый шаг в борьбе с масонством, которая вылилась в итоге в запрет масонских лож и арест в 1792 году Николая Новикова. Вполне вероятно, что, начиная эту кампанию, она не могла точно предвидеть, чем она завершится. Изначально она рассчитывала лишь предостеречь общественность от нелепостей, которые она усматривала в масонских практиках. Екатерина опубликовала памфлет под названием «Тайна противо-нелепаго общества, открытая не причастным оному» (1780) [Екатерина II 1780]10. В памфлете она высмеивала обряды посвящения в масонские ложи: воображаемому посвящаемому задается ряд бессмысленных вопросов, а затем зачитывается катехизис, полный несуразностей. В итоге посвящаемый говорит мастеру ложи, что «пустые и неясные слова» противоположны интеллектуальной ясности, а «двоезнаменателныя речи и злоупотребление звучных слов и выражений» приводят к ложным рассуждениям. Самым забавным моментом памфлета стало осмеяние масонских эмблем, к которым Екатерина отнесла зевающий рот с надписью: «Рот зевающий. Сие значит, что таже сказка, а особливо если она не лепа, скучна и без вкуса, конечно произведет зевоту» [Екатерина II 1893: 443–444].
Антимасонская кампания Екатерины, пока она ограничивалась остроумными памфлетами, не нарушала духа ее просветительской терпимости. Вольтер и его многочисленные подражатели исходили из того, что критика суеверий не противоречит законодательной терпимости к «суеверному» культу. Поскольку «Тайна противо-нелепаго общества» была опубликована анонимно, и за ней не стояла мощь государства, Екатерина могла бы выдать ее «всего лишь» за вклад в общественное мнение. Проблема логики Екатерины (как и умеренной просветительской доктрины о терпимости) заключалась в нечеткой грани между осмеянием «нелепых» верований и их запретом как опасных. Ведь если действительно счесть религиозные верования мерзостью, противной разуму, то рано или поздно возникнет желание ограничить их исповедание и начать преследовать верующих как «неразумных» и «опасных» для установленного порядка. Идея позитивной свободы привела Екатерину к тому, что в 17851792 годах она заставила российских масонов «делать то, что надлежит» согласно закону, то есть отбросить свои нежелательные тайные практики и распустить ложи. Запрет «общества вольных каменщиков» Екатериной, по этой логике, соответствовал «истинной свободе» масонов.
В первые годы царствования Екатерина внесла значительный вклад в развитие русской мысли. Она использовала свой политический авторитет для создания и расширения сферы общественного мнения и продвижения целого ряда идей Просвещения – от упорядоченного полицейского государства до веротерпимости. Позднее противоречия в ее представлениях о свободе и веротерпимости нашли выражение в скучном благочестии «Записок касательно русской истории» и в антимасонской кампании. Учитывая внутреннюю противоречивость ее политической мысли и ограничения на развитие просветительских идей, было неизбежно, что некоторые образованные россияне XVIII века бросят вызов ее взглядам, расширив сферу применения разделяемых ею просветительских принципов и попытавшись преодолеть или устранить противоречия в ее философии. Таким образом, Екатерина способствовала возникновению более радикального и последовательного просветительского течения в интеллектуальном пространстве общества, для создания которого она сама приложила немало усилий. В политике, как мы видим, нужно быть осторожным в своих желаниях.



