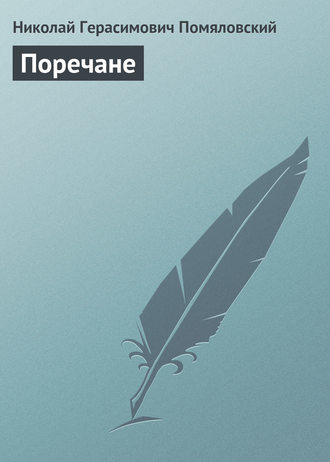
Николай Помяловский
Поречане
IV. О том, как в Поречне все бабы рот расстегнули
Одиннадцать часов утра. Если бы поречане читали г. Берга, то они сказали бы: "Экие морозцы, прости господи, стоят". Но в описываемое нами время г. Берг, прости его, господи, вероятно, ходил в курточке, а в тогу еще не был посвящен и не либеральничал с зайцем и зайчихою. Итак, поречане не сказали: "Экие морозцы, прости господи, стоят". А морозцы стояли трескучие.
Кабак, наш отечественный парламент, по случаю праздничной обедни был заперт. Около парламента стояла огромная толпа муравьев. Муравьи суть крючники, т. е. джентльмены, занимающиеся при пособии железного крюка переноскою хлебных кулей на своих крепкокостных спинах. Прозваны они муравьями от местных бурсаков, которые крючника образно представляют в виде муравья, а куль его в виде муравьиного яйца. Муравьи волновались и шумели. Один из них говорит:
– Сказывают, тот, что помене, кочережку в узел вяжет.
– Чаво! – замечает другой: – камень кулаком расшибает.
– Да что, братики мои, – вмешался третий: – один из них, я слышал, четвертаки перекусывает.
– Ой ли? – ответили ему сомнительно: – да ты из каких?
– Неча хвалиться, мы витебские, – ответил смиренно муравей.
– То-то "витебские"… не ври!..
– Неча врать: что слышал, то и сказал…
В соседней церкви ударили в колокол. Муравьи устремились к дверям парламента, т. е. кабака, и стали ломиться в двери.
– Дядя Пантелей, отвори! – кричали они богу сивушного масла.
– Дядя Пантелей, в церкви к "достойни" ударили.
– По закону, выходит, отвори!
От дяди Пантелея ни гласа, ни послушания…
– Дядя Пантелей, оглох, что ли?.. Леший!.. Право, леший!.. Ведь тебе ж говорят, что к "достойному" лупят… Огвари, чорт!..
Из-за двери кабака послышался ответ:
– Ждите молебна.
Муравьи, потеряв надежду на скорое открытие парламента, порешили:
– Неча делать, давай ждать молебна.
– А кто видел молодцов? – послышалось в толпе.
– Каво? – спросил вновь прибывший муравей.
– Каво?.. не лезь… чего прешь-то?.. Ишь рот-то разинул, – смотри, ворона влетит.
– Чаво?
– Чаво!.. Спишь, что ли?.. Вздремнул?
– Не лайтесь, ребята, не с чего, – вмешался миролюбивый муравей. – Стой-ка, я лучше расскажу вам о молодцах.
– Ты видел их?
– Видел…
– Каковы?
Сильное любопытство слышалось в этом вопросе.
– Ростом – вона! – заговорил, одушевляясь, муравей, неистово меряя в воздухе руками: – плеча – эва!.. рожа – вона!.. силища, – скажу вам, непомерная!..
Затрезвонили к молебну.
– Ребята, лупи в кабак!
Муравьи опять устремились к парламенту.
– Дядя Пантелей, к молебну жарят!.. Отвори!..
Открылись двери кабака.
Мужики шумною толпой повалили в парламент.
– Ну, ребята, – начал муравей, тот самый, который объяснял о молодцах, волновавших умы крючников: – ну, братики, теперь собирай складчину.
– На что? – спросил вновь прибывший крючник.
– На дело.
– На кое?
– Тебе ж говорят, что из Москвы молодцы приехали… просто – богатыри, одно слово – богатыри!.. Сегодня лупку дадим поречанам… Во-что!
– Лихо!.. так это им сбор?
– На ведерную…
– Идет!.. Доброму делу всегда рад. Вот-те колесо.
Мужик дал гривну.
– Мало, братик, мало.
– Так вот-те еще колесо.
Мужик дал другую гривну.
Начался общий сбор. Около осьми рублей ассигнациями, – тех времен откупная цена кабацкого божка, имя которому "ведерная", – были сложены на доброе дело.
Но наконец мы должны объяснить читателю, что это было за доброе дело.
Для этого дела зимою, каждый праздничный день, часа в три пополудня, на дорогу, легшую поперек реки, собирались крючники и поречане играть в старинную славянскую игру, называемую боем. Со стороны поречан сходилось до полутораста человек, а со стороны муравьев вдвое больше. Сначала с обоих берегов реки, на средину ее, сходились обыкновенно мальчики, крича: "дай бою, дай бою!" – призывный крик к битью. Только к вечеру собирался взрослый народ; тогда дети отодвигались в правую руку от дороги и устраивали здесь малое плюходействие. Кулачная игра имела свои правила и постановления. Прохожих, не участвующих в деле, трогать запрещалось; приходить с вооруженною рукою – тоже; кто упал, того не били, а когда увлекался боец, кричали ему: "лежачего не бьют!" Не позволяли бить с тылу, а бейся лицом к лицу, грудь к груди. Эти правила наблюдались строго: нарушителя их били свои же. В бою шли стена на стену, впереди каждой – силачи, а сзади – остальной люд, напирающий на противников массою… Выигрыш в битве состоял в том, чтобы выпереть противников на их же берег, после чего начиналась на средине новая боевая сходка. Бои существовали с незапамятных времен и запрещены в Поречне Николаем I лет четырнадцать назад, вследствие события, которое мы хотим рассказать. Эту игру обыкновенно поощряли купцы и военные… Бывало, на Озерной во время боевого дела стоят коляски и сани; в них сидят купцы и офицеры, вызывают силачей на единоборство, держат пари и сыплют в толпу серебро и бумажки, поощряют, жалуют. Большая часть денег выпадала на долю поречан; несмотря на то, что их было почти наполовину менее муравьев, они редко обращались в бегство. Работая на верфи, где приходилось лазить с топором и долотом, лепясь как ласточки по бортам суден, они, естественно, кроме силы приобретали и ловкость. Притом любовь к драке у них была в крови. Даже летом, когда боев обыкновенно не бывает, пореченские подростки бились между собою за кладбищем, край против края. Поречане, кажется, только тогда и не дерутся, когда лежат в люльке или зыбке, по лишь только начнут ползать по полу, то так и норовят, как бы расшибить нос своему братишке или сестренке. Бедовый народ. На бою они действовали дружно, крепко, стройно, умно. Муравьи же, хотя и обладали замечательною силой, необходимою для их ломовых работ, но не имели ловкости поречан. Правда, если крючник ударчт кого, то удар будет очень впечатлителен, но ему не часто удавалось ловить под свой дубоватый кулак лицо противника. Поэтому муравьи не часто одерживали победу. Муравьям зто было очень обидно, и вот они выписали двух молодцов-братьев, приезжих из Москвы, необыкновенных силачей и притом искусных водить бои. О них прослышали и поречане.
В Поречне два парламента. В одном парламенте толпятся поречане и решают тот же вопрос, который уже успели решить муравьи.
– Я, – говорит один поречанин, красноречивый по-туземному: – видел их, как есть, своею, значит, личною персоною.
– Так, – отвечают другие, ободрясь "красно-хитро сплетенным словом", думая, что он хочет отрицать слухи о непомерной силе богатырей.
– Что ж, – продолжал оратор: – значит, следует сказать вот как: народ, должно полагать, свирепый. Силища, должно думать, дьявольская. Словом, черти!
– Их двое?
– Как есть двое!.. Давеча я был за рекою у кабака, так про одного, просто диво, что толкуют. Сказывают, что кочережку крутит, как веревку, булыжник кулаком расшибает, даже говорили, что четвертаки перекусывает. Но главная сила все-таки не в том.
– В чем же?.. в чем?
– Они бои важивали и всегда расшибали.
– Экие черти!.. принесло же их!..
– Да, принесло вот.
Вести нехорошо действовали на поречан. Хлестнев, первый силач после нашего героя, проговорил:
– Коли правда, что эти свиньи четвертаками облопались, то надо вести дело умеючи.
– А что против силы предпримешь?
– Глуп ты. Вот какой, значит, мы рецепт устроим: кто посильнее, тот держись более друг к другу, а остальные только отводи… потом все сразу на одного… Сшибем одного, я вам говорю, остальные бросятся бежать… Да что тут толковать? Поручаете мне вести бой?
– Веди, Алексей Петрович, веди: ты на это ходок.
– Ну, и дело!.. Да пойдемте, братцы, просить Ивана Семеныча, чтобы помог нам…
– Не больно-то он любит драться.
– Однако дирался же.
– Сегодня дело-то такое – пойдет.
Поречане выбрали из среды себя шесть человек и отправили их к Ивану Семенычу.
Ивана Семеныча все знали и уважали как силача. Особенно он прославился победою над одним, как выражались поречане, заморским богатырем. В городе жил один граф, человек необыкновенно сильный, специально изучивший бокс и любивший потешаться единоборством. У этого графа Ивану Семенычу случилось справлять какую-то работу. "Кто у вас сильнее всех?" – опросил его граф. – "Я", – ответил Иван Семеныч. – "Ты? Давай бороться". – "Как же это так? А если я сомну вас?" – "Ничего". Стали бороться, и наш герой смял графа. К этому графу приехал однажды англичанин, знаменитый боксер, о котором в английской печати упоминалось, как об удивительном явлении природы и кулачного искусства. Граф познакомился с ним, поборолся и был побежден. Закипело в душе его патриотическое чувство глубоко оскорбленного самолюбия. "А что, – спросил он англичанина:– согласитесь вы подраться с одним знакомым мне поречанином?" Боксер согласился. Далее предоставим рассказ самому Ивану Семенычу. Вот что я слышал от него. "Сидел я и строил оконный переплет. Слышу, карета едет. Ладно. Но вдруг карета, значит, остановилась около моих ворот. Это что такое? думаю себе: колесо, что ли, сломали? Взглянул: ничего не бывало, карета здоровехонька… Что за чорт?.. Соскочил с запяток лакей и идет на мой двор… приходит ко мне и презентует: "Ты – Иван Семенов Огородников?" – "Я, значит". – "Садись в карету и поедем". – "Зачем?.. куда?" – "Граф требует". – "Зачем же в карету садиться?" – "Повезем тебя к графу". – "Да к чему же в карете? я и пешком могу". – "Не толкуй, говорит, на та графская воля". Делать нечего, оделся и сел в карету, – раз только в жизни и ездил в таком экипаже, ошалевши, еду – ничего не понимаю. Приехали. Позвали меня, значит, к графу. "Можешь побить, спрашивает, одного дурака?" – "То-есть как побить?" – "Переломать хорошенько кости одному господину?". – "Кому прикажете?" – "Пойдем". И повел меня граф. Привел в большое зало. В зале сидят на креслах, я так полагаю, человек около полутораста, и все это, как я узнал после, родня да знакомые графа Т., тоже – графы да графини, князья и их жены. Видите ли, к графу-то приехал заморский богатырь и стал хвалиться, что его, значит, никто не побьет в России; граф осерчал и вытребовал меня. "Не опозорь", – говорит. – "Как бог поможет, – отвечаю: – а кого бить прикажете?" – "Дерись вот с этим господином". По середине залы расхаживал какой-то барин, как есть барин, во фраке. "Их бить прикажете?" – "Да. Но подожди". Граф поговорил что-то с англичанином. "Ступай и дерись". Снял я синий суконный армяк, перекрестился, понатужился, кушак лопнул, значит, – и стали мы драться… Разъярился я: убью, думаю, а не позволю позорить Россию; но чорт знает этого англичанина, извивается как угорь, т. е. ни по чему не могу задеть его, а он лупит меня и в рожу, и в горло, и в грудь. Этаких ловкачей я и не видывал. Подожди же, думаю. Наконец изловчился я и саданул его по правому плечу; гляжу, рука повисла; я по левому, – другая повисла. Гляжу: он еле дышит. "Что, голубчик?" – спрашиваю, и замахнулся кулаком – убить его пожелал: значит, не позорь нашего отечества, – да граф закричал: "Не тронь!" В это время господа стали реветь: "Ура!", "браво!", "молодец!", стали хлопать в ладошки. "Удружу же я вам", думаю себе, и взял я поднял у англичанина фрачишко, да шелепами, шелепами его и выгнал вон из залы. После бранили за это, говорили, что англичанин был тоже барин, английский барин, и хотел искать на графе; но все-таки граф пожаловал меня двадцатью пятью рублями, да его гости накидали кучу денег". Такой подвиг Ивана Семеныча знали даже ребятишки поречан. С глубоким уважением взирали на него селяне Малой Поречны. При громадной силе, Иван Семеныч Огородников был неустрашим и предприимчив. Поречане говорили о нем, как о молодце, вот еще за какой подвиг. Тронулся лед на реке Озерной. Иван Семеныч был за рекою. Ему непременно надо было попасть домой. Что делать? Иван Семеныч, долго не думая, взял две доски и с ними стал переправляться на другую сторону реки через туго идущий лед: положил доску на плывущую льдину, прошел по ней, положил другую доску, которую держал в руках, поднял свободную, положил новую, прошел по ней, и так, переменяя доску за доскою, добрался до пореченского берега. Это узнал генерал, управлявший Поречною; за смелость и молодечество он пожаловал Огородникова, как и граф, двадцатью пятью рублями. Награда понравилась нашему герою, и он на следующий год, уже не по нужде, а из желания получить гонорарий, опять повторил переход через движущийся лед Озерной. Генерал узнал и это. Он опять призвал Ивана Семеныча, но вместо награды дал ему очень чувствительную порку, говоря: "Ты думал еще получить от меня деньги? Тогда тебе надо было попасть домой, а теперь ты рисковал жизнью из-за грошей. Так вот тебе". Но, несмотря на порку, полученную от генерала, Иван Семеныч своим подвигом приобрел уважение себе от поречан. При такой силе, ловкости, смелости и решимости, наш герой был плут и вор очень искусный: крал он в лесах, крал на барках, гонках {Гонками называются плоты бревен, связанных вицами, т. е. кручеными еловыми кольями.}, крал на рынках, крал по домам в городе {Замечательно то, что поречане в своем селении друг у друга почти никогда не воровали. Однажды только обокрали чердак дьякона, да и то, вероятно, потому, что не причисляли его к своим.}, где работал, крал везде, где только можно, – и никогда не попадался. У него было нравственное правило, выражаемое фразою: "тот не вор, кто не попался". За это достоинство тоже уважали его поречане, потому что все они, как увидим далее, были очень представительные мошенники. Иван Семеныч был человек пока не пьющий, и хотя изба его действительно кололась на-двое, но он, праведно и неправедно добывая деньгу, копил ее очень усердно: у него под печкой лежало двести тридцать четыре рубля, завязанных тряпицею, которая была заткнута в рваный, никуда не годный сапог. Пришли к Ивану Семенычу послы, но пришли в недобрый час, в тот недобрый час, когда ему "бабу было надо", а баба наплевала на него. Он был человек упрямый и несговорчивый: что заладит, что затеет, то гвоздем вбивалось в его голову; требовались очень крепкие клещи, чтобы вырвать из головы его засевшую в нее мысль или намерение.







