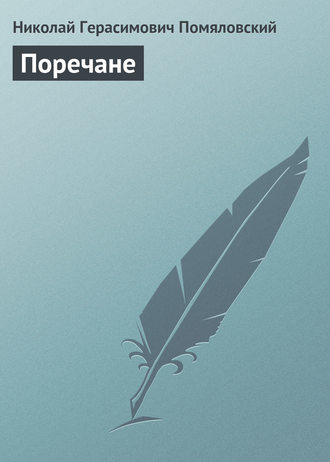
Николай Помяловский
Поречане
II. Бабу надо
Иван Семеныч Огородников, пореченский селянин, столярный мастер, был здоровеннейший парень лет двадцати четырех, красавец собой, курчавый, широкоплечий, крепко-грудый и первый силач на Поречне. Он, несмотря на видимую доброту своего сердца, был, как увидим, мошенник на правую руку и на левую руку.
Иван Семеныч зимним вечером сидел в своей неприглядной, маленькой мастерской, которую рассматривал с полным отвращением. Взглянул он на верстак, на оструганную доску, на опилки под верстаком, на сальный огарок на нем, – и на все это плюнул со злостью…
– Чего же я злюсь? – спросил он себя.
– Не знаю, – ответил он сам себе.
Иван Семеныч стал снова озирать свое жилище.
"Какое у меня, – думал он: – значит есть богатство и украшение в комнате?.. Посмотрим… В углу образ божией матери, но ведь без всякого оклада… Под ней Георгий победоносец… да что в нем плезиру? сам-то Геортий давным-давно слинял, и осталась от него одна лошадь да ноги самого…"
Иван Семеныч плюнул.
– Посмотрим, что еще у нас?.. Это что? – спросил он, глядя на маленькую, в полвершка величиною картинку, прикрытую стеклышком.
– Это что?
– Ах, ты леший, – отвечал он: – ведь это с табачной бандероли вырезанная цифра "2"…
– Ты зачем здесь?.. вон!
Иван Семеныч сорвал со стены цифру и растоптал ногами приклеенное к ней стекло.
– Что далее? – говорил он… – А!.. портрет генерала… Но отчего ему рожу перекосило?.. Разве такие бывают генералы? Разве у генералов бывают вместо щек титьки?.. Разве генералы имеют кривой нос?.. А зачем глаза его смотрят – один в Москву, другой в Питер?.. К чему рисуют такие святочные хари?.. Будто это генерал?.. Подожди, я доберусь до тебя, – сказал он, погрозив генералу кулаком… – Господи, как мне скучно, как тяжело! – заключил Иван Семеныч. – Отчего же это?
Иван Семеныч стал ходить по комнате, отыскивая в ней по углам и под лавками причину своей скуки, и нигде не отыскал ее.
– Чорт знает, что такое!.. – проговорил он: – кажется, я человек работящий… дело свое справляю, значит, как следует, в храм божий хожу… по праздникам попов принимаю… царю я слуга верный… человек я образованный… я сыт, обут, одет… девчонки на меня зарятся… Чего еще недостает мне?.. А чорт с ней и со скукой!.. Дай, поработаю!
Иван Семеныч ввинтил доску в верстак и начал стругать ее. Но это мало развлекло его. Он со злостью бросил на пол струг и стал чесать рыжую овчину на своей голове.
– Лягу же спать, чорт их дери!
Полез он на печь, но не спится ему… После долгого поворачивания с боку на бок, он проговорил:
– Нет же, стану работать!
Он взял в руки долото и стал долбить им доску. Но вдруг бешенство напало на него…
– Тяжко, тяжко! – шептал он, всаживая долото в дерево…
В это время перед ним, при мерцающем свете сального огарка, на закоптелой и покрытой тараканами стене вырезалась картина генерала.
– Чего ты смотришь на меня? – закричал Иван Семеныч генералу грозно.
При дрожащем свете огарка генерал мигнул – одним глазом в Москву, другим в Питер.
– Молчи, чорт! – кричал наш герой. Генерал, разумеется, ни слова.
– Поговори ты у меня!
Генерал не говорит. Но у Ивана Семеныча, вероятно, было очень сильное воображение, доводящее его и в трезвом виде до галлюцинаций. При напряженном состоянии нервов ему слышалось что-то.
– Чего ж тебе надобно? – вопил он. Генерал опять мигнул в Москву и в Питер…
– Хорошо же!
Иван Семеныч всадил долото в лоб генерала.
– Я тебе и брюхо распорю.
Распорол.
– Я тебя совсем задушу!
Иван Семеныч сорвал невинную картину, бросил ее на пол и стал топтать ее своими крепкими ступнями. Но вдруг на него нашло раздумье.
– Что я делаю?.. Что я делаю?.. к чему это?.. Что это со мной? Боже мой, боже мой!..
Он стал шагать по комнате, снова осмотрел ее всю и потом остановился среди бедной хаты. В ту минуту он походил на египтянина, которому сфинкс задал неразрешимую загадку. В чем же состояла эта загадка? В вопросе: "что мне надо?" Вся фигура Ивана Семеныча выражала темную грусть. Он никак не мог поймать за хвост ту причину, которая породила его грусть. Лицо его снова побагровело злостью, кровь бросилась в голову, зубы стиснулись, кулак сжался; но потом неожиданно лицо осветилось чем-то вроде небесной радуги.
– Кажется, так? – спросил он, ударив себя ладонью по лбу.
Он совсем просветлел.
– Да! – крепко ударил Иван Семеныч словом "да".
Не узнать его теперь: светел стал он, ясен, радужен, похож на сторублевую ассигнацию. Но потом на него напало сомнение, и, подперев пальцем нос, он спросил:
– Будто?
Опять грустью подернулось лицо.
– Именно так!.. Да!.. знаю, что мне надо!.. Что?.. бабу надо… Эх, кабы Груньку!..
Иван Семеныч стал одеваться. Оделся и пошел на улицу искать себе бабу.
Милостивые государи, вам, разумеется, не надо бабы, а требуется дама, а вот Ивану Семенычу не надо дамы, а требуется баба. Отыщет ли он ее?
III. Баба и любовное объяснение с нею
Иван Семеныч встретил на улице бабу (дама тож), и именно ту, которая ему требовалась.
– Аграфена Митревна, это вы? – спросил он.
– Мы, – было ответом.
– От нас салон-с вам.
– Поди прочь, околелый чорт!
– Мы не околели… От нас пришпект вам.
– Что тебе надо, тавлинник?
– Табаку не нюхаем… От нас паперимент вам.
– Свинья ты!
Иван Семеныч взял Аграфену Митревну за талию: у баб, как и у дам, есть талия.
– Отстань, леший! – сказала пореченская дама (баба тож).
– Полюби меня, – отвечал мой герой.
– Тебя?.. за что?..
– За мои таланты.
– У тебя таланты?
– У нас.
– А не хочешь ли, я тебе скажу, что ты, как есть, свинья.
– Это – мы?
– Вы.
Аграфена Митревна расхохоталась.
– Какие это, значит, есть у тебя таланты?
– Что же, Аграфена Митревна, посмотри ты на меня: чем я против других не вышел?
– А ты взгляни, дурак, у тебя изба колется на-двое.
Иван Семеныч почесал в затылке.
– Ну, что скажешь?
– Починим.
Иван Семеныч посмотрел в сторону, как человек, мучимый совестью.
– В кои веки?
– Уж сделайте одолжение…
– Поди прочь, необразованность.
– Мы необразованы?.. От вас ли я слышу, Аграфена Митревна? Да вот теперь сколько сказал я вам хороших слов.
Иван Семеныч говорил это с полным убеждением. Пореченская образованность выражалась в особого рода типическом красноречии. Это не было красноречие риторическое, стелющееся длинными периодами, не было красноречие семинарское, удобренное славянскими цитатами; это было красноречие чисто-туземное, оригинальное и своеобразное. Оно состояло в уменьи подбирать хорошие слова, вроде салон, паперимент, пришпект и т. п. Подслушав в городе, где поречане справляли нередко работы, или вычитав в газете хитрое, нерусское словцо, поречанин пускал его в ход в своем селении. Это слово в устах поречанина совершенно переменяло свой настоящий смысл. Поречанин хорошим словом и обругается, и похвалит, и выразит просьбу, вроде того, как и всякий наш соотечественник может выразить крепким русским словцом какое угодно расположение духа. Пореченское красноречие, кроме того, постоянно пересыпалось словами "значит", "околелый чорт" и "тавлинник". К туземному красноречию у многих поречан развивалась положительная мания. Как теперь помню, переезжал я через Озерную в ялике. Со мною сидел молодой поречанин. Глядя на отстраивающуюся церковь, он сказал: "А ведь церковь строится в историческом стиле". Впадая в его тон, я ответил: "Так, но в основе стиля лежит идеальная трапеция трансцендентального штандпункта". Он заставил меня повторить хитрую фразу несколько раз, запомнил ее, и я уверен, что в тот же день пустил в ход идеальную трапецию. Таково было красноречие поречан.
– Мы необразованы? – продолжал Иван Семеныч: – да какой хотите рецепт устрою вам.
Аграфене Митревне, очевидно, нравились все салоны, пришпекты, паперименты и рецепты Ивана Семеныча, но она все-таки отвечала:
– Почище вас найдем.
– Где это?
– Здесь же – в Поречне.
– Кого это?
– Не вас.
– А нас, значит, к свиньям?
– Именно.
– За что же, Аграфена Митревна?
– А за то, что мы для вас – не в коня корм будет: рылом не вышли.
– Что ты говоришь, Аграфена Митревна?.. Побойся ты бога!.. Я ли не красив?.. Посмотри ты на мой рост, на плечи, на грудь, на лапы наконец, – ведь вона какая рука, кого тресну, так, значит, покойник и будет…
– Что ж из того толку?.. Все-таки у тебя ни кола ни двора… Я на молоке да на сливках добуду рубля два-три, а ты-то что?..
– Я же, Аграфена. Митревна, человек работящий.
– Знаю… и вор изрядный…
– Что ж?.. это не к худу: разживемся, даст бог.
– Ты-то?
– Мы.
– Дурак ты, дурак, право, дурак.
– Аграфена Митревна, – стал говорить Иван Семеныч патетическим голосом: – пожалей ты меня сироту, человека одинокого… Скучно одному, тошно!.. Ни отца, ни матери нет, ни братьев, ни сестер… Что же мне делать?.. не в кабак же итти… не чорту душу продать… Голубушка моя милая!.. полюби меня, Аграфена Митревна… Ей-богу, души своей не пожалею для того, чтоб ты в золоте ходила… Мне без тебя ведь жизнь не жизнь…
– А мне-то что? – ответила Аграфена Митревна. Темные тучи заходили по лицу Ивана Семеныча.
– Значит, Аграфена Митревна, так-таки и ничего? – спросил он.
– Само собою…
– Когда так, мне все равно!.. Что хочешь, а свое я возьму!.. Я люблю тебя, Грушенька!..
Иван Семеныч бросился на бабу (дама тож) и заключил ее в могучие объятия. Стал он ее "целовать, крепко к груди прижимать"… Но хотя Иван Семеныч был первый богатырь в Поречне, дама сумела высвободиться от него: она укусила Ивана Семеныча в шею; Иван Семеныч в ту минуту отпустил ее; баба (дама тож) ударилась в беги… Иван Семеныч за бабой, баба от него; он за бабой, баба дальше. Он уже настигает бабу, но когда оставалось только протянуть руку и схватить бабу, она скрылась за воротами своего дома…
– Ушла, свинья! – говорил Иван Семеныч.
– Околелый черт! – послышалось из-за ворот.
Темно на улице, и потому только рассмотреть нельзя, как по щекам Ивана Семеныча ползут ядовитые слезы. Он, читатели, сильно любил. Но странно любил этот человек, по-пореченски…
– Груня!.. Грунька!.. – заговорил он: – за что ты меня не любишь? Эх!..
Пошел Иван Семеныч в свою закоптелую, изъеденную плесенью и тараканами избу.
– Проклятое бабье! – говорил он: – чортова порода!.. Взять бы тебе, любезная моя Аграфена Митревна, да поднять подол, да задать хороших, шлепендрясов – вот и был бы паперимент вашей милости!.. А, ей богу, сделаю это!.. При всем честном народе опозорю… Ох, бедность, бедность!







