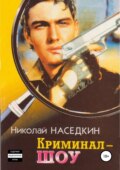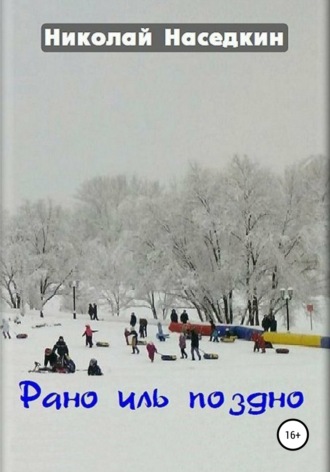
Николай Николаевич Наседкин
Рано иль поздно
Звоню Иванову. Бог мой, ну конечно: в нашем журнале года три назад печаталась очень любопытная повесть Клушина «Прототипы» (её даже в обзоре снобистского «Нового мира» отметили), а позже – замечательная статья «Чехов и еврейский вопрос», та вообще вызвала фурор. Мы даже хотели за эту статью годовую премию журнала Клушину дать-вручить, но как раз Иванов настоял, чтобы премию по критическому отделу в том году мы отдали не малоизвестному провинциалу, а маститому Павлинову за его очередную статью о Тургеневе. Иванов напоминает-сообщает и о том, что этот Клушин недавно выпустил в крупнейшем московском издательстве «Эксмо» энциклопедию «Чехов». Да как же я мог забыть? Я сразу её купил и, помню, поразился: как смог один человек составить такую полноценную энциклопедию о необъятном Чехове да ещё и где-то в тьмутараканской глуши! А ещё, подсказывает Иванов, в Баранове живут истинные поэты Александр Телятников и совершенно молодая Мария Петрищева – их стихи наш журнал тоже публиковал…
Меня кормят чересчур обильным завтраком в кафешке при гостинице, позволяют отдохнуть с дороги и везут на встречу с губернатором. Это не моя инициатива – избави Боже: губернатор, узнав, что в его вотчину приезжает «литературный генерал», «классик» и редактор всё ещё престижного журнала, сам загорелся желанием на меня взглянуть. У входа в местный Белый дом (назвать его патриотично Кремлём было бы нелепо, ибо здание и в самом деле белое) к нам присоединяется Клушин. Я быстро понимаю-догадываюсь, что мы с ним в какой-то мере близнецы-братья: он тоже избытком общительности и болтливости явно не страдает. И, что тоже бросается в глаза, особого пиетета ни перед столичным литгенералом, ни перед своим генерал-губернатором не испытывает.
Встреча проходит, как пишут в протоколах, в дружеской обстановке. Губернатор убеждает меня, что литературу в области любят, местным писателям загнуться в наши кризисные времена не дают, поддерживают как могут.
– Вон, Александр Александрыч соврать не даст…
– Не дам, – скупо улыбается Клушин. – Поддержка есть, особенно на издание книг, – спасибо! Но ведь, Олег Иванович, вы нам друг, но истина дороже: творческих стипендий писателей в этом году лишили? Лишили…
– Ну, а как ты хотел? Кризис! Стипендии у писателей даже вон в Белгороде и Орле отобрали…
– Зато там по-прежнему не только книги местных писателей издают, но и гонорар им выплачивают…
– Ладно, ладно, – всё ещё с улыбкой, но с ноткой недовольства в голосе отмахивается губернатор. – В рабочем порядке решим…
Дальше встреча катится без сучка-задоринки, в конце мы обмениваемся подарками: губернатор вручает мне шикарный альбом «Храмы Барановской епархии», я ему – свой последний переизданный роман и свежий номер журнала. Клушин, пользуясь случаем, тоже одаривает губернатора презентом – очередным только что вышедшим выпуском «Барановского альманаха».
– А вам, Николай Степанович, – поясняет, – мы в Доме печати наши подарки вручим.
От губернатора отправляемся в Дом печати. По дороге в машине мы сидим с Клушиным на заднем сидении. Молчим. Наконец я спрашиваю:
– Александр, а вы что, прозу перестали писать?
– Почему вы так решили? – удивляется он. – У меня в прошлом году в московском «Голосе» вышел роман «Джулия». Кстати, в этом он уже и в Польше издан, на польском…
– Ну а нам почему ничего не предлагаете?
– Как же… Уже года полтора, как повесть моя «Иск» у вас лежит. Жду. Впрочем, у вас же завотделом прозы сменился…
– Я обязательно выясню-разберусь, – горячо обещаю я. – Непременно повесть вашу опубликуем!
– Ну, Николай Степанович, вы сначала почитайте… Может, и не понравится, – усмехается Клушин.
Барановская писательская община мне и в целом кажется симпатичной. Правда, в сборе из тридцати всего человек восемь, самых, вероятно, адекватных. К сожалению, Александр Телятников, оказывается, живёт в глубинке, в ста с лишним верстах от города, так что с ним пообщаться не получается, но зато вижу двадцатилетнюю Машу Петрищеву. С ней я уже встречался в Москве и чрезвычайно рад снова увидеть её милое русское лицо, осенённое светом таланта.
Я планировал минут через пятнадцать откланяться, но сидим часа два. Пьём кофе, чай в пакетиках, закусываем конфетами. К слову, я ожидал, что меня станут угощать по обычаю водочкой и заранее хотел отказываться. Потом, в ходе разговора, по шуткам, я догадываюсь-понимаю, что здесь действительно чай-кофе предпочитают водке-пиву. И это поразительно: приходилось в других городах бывать-бражничать, да и в Москве, куда ни сунься на писательские посиделки, пить начинают с первой минуты и до упора…
Но меня ещё больше трезвости барановских пиитов и прозаиков поражают их оптимизм и энергия: создали своё издательство, выпускают книги, дважды в год альманах, проводят вечера, презентации, литературные праздники… На голом энтузиазме: ни зарплат, ни гонораров, ни теперь вот и стипендий! Когда наконец Москва примет Закон о творческих союзах? Когда?! Вот о чём они меня пытают. Что я им могу ответить? Полтора десятка лет проект этого закона гуляет по высоким кабинетам и не принимается: нет, мол, финансовой базы под этот закон, надо искать примерно миллиард рублей. За последний кризисный год, между прочим, миллиардов пятьдесят не то что рублей – баксов нашлось-отыскалось, чтобы количество долларовых миллиардеров в России увеличилось вдвое…
А пока закон не принят, жизнь-существование писателей (художников, композиторов etc.) зависит от благосостояния региона и воли местных вождей. В соседнем Белгороде, к примеру, на писательскую организацию в год официально выделяется около пяти миллионов рублей. Да ведь на самом деле не на писательскую организацию, а на сохранение и развитие-поддержку местной литературы, на культуру, на имидж области! А барановские писатели получили в прошлом году около пятисот тысяч. В десять раз меньше. Хотя и те и другие живут в одной России и входят в один Союз писателей России. Возникает вопрос: почему? Ответ прост как мычание: да ведь Белгородчина богаче Барановской области раз в десять. Что ж, спорить с этим трудно. Но ведь тогда другой интересный вопрос встаёт-назревает: а почему бы тогда барановским чиновникам и депутатам не получать раз в десять меньше их белгородских коллег?..
Были, конечно, вопросы и о Литинституте (Клушин, оказывается, учился на ВЛК в семинаре Павлинова), и о моём творчестве, и о журнале. И здесь я, дабы поддержать симпатичных людей, обещаю, что в одном из летних номеров журнала мы представим своим читателям Барановскую писательскую организацию. А чтобы не было обид, я сам отберу рассказы и стихи из двухтомника «Барановский писатель-2010» и трёх последних номеров «Барановского альманаха», что вручил-подарил мне Клушин.
Уже раскланиваемся и прощаемся, когда в писательскую врывается встрёпанная дама неопределённого возраста с горящими безумьем гениальности глазами:
– Хосподи, чуть не опоздала! Чё же мне нихто не сказал? По радио, слава Боху, услыхала о встрече! Николай Степаныч, я давно хочу с вами познакомиться…
Через минуту я становлюсь счастливым обладателем пяти сборников с автографами и объёмистой рукописи-распечатки новых стихов темпераментной поэтессы, а в качестве бонуса получаю головную боль…
Обедать меня везут в ресторан «Корсар» на Набережной. Клушин с нами не поехал, хотя его и приглашали, и я уже в машине, не зная куда девать пакет с дарёными книгами, вспоминаю, что ни я Александру свой роман не подписал, ни он о своей последней книге не вспомнил. Впрочем, будет ещё время: я обязательно хочу до отъезда познакомиться-пообщаться с Клушиным поближе.
После чересчур обильного обеда с коньяком у меня в добавление к головной просыпается и в боку знакомая томительная боль. В театр я попадаю уже в плохом настроении. Директор, не обращая внимания на мой кислый вид, тащит меня в свой кабинет, где сверкает бутербродами с икрой, фруктами и новыми бутылками коньяка фуршетный стол. Еле отбояриваюсь. Неугомонный директор увлекает меня на экскурсию по театру, начинает хвалиться интерьером и репертуаром. Интерьер и правда впечатляет – в этом роскошном здании размещалось при царях Дворянское собрание. В афише и правда помимо обязательных западных водевильчиков и непременного Островского значатся-красуются имена и современных русских авторов – Лобозёрова, Полякова, Сигарева, моё…
– Скажите, – для поддержки разговора спрашиваю я, – а почему у вас совсем нет Чехова, тем более в юбилейный год, и местных авторов?
Директор широко разводит руками:
– Да, согласен, упущение. Если честно, на Чехова боимся замахнуться… А вот с местными… Лежит у нас уже три года пьеса Александра Клушина «Город Баранов», очень сильная, но, увы, не можем найти деньги на постановку…
Я благоразумно не решаюсь выяснять-спрашивать, где театр нашёл финансы на постановку Полякова, Сигарева, моей пьесы.
Спектакль, который давали в этот вечер специально для моего знакомства с труппой, – из классики: инсценировка «Села Степанчикова». Зал заполнен едва на треть. Я, конечно, хорошо знаю-помню мхатовский шедевр с Грибовым в главной роли. Когда барановский Опискин с первых сцен начинает вопить-орать во весь голос, топать ногами и лупить мальчика Фалалея (которого изображает почему-то упитанный артист лет сорока!) кулаком и даже пинать, директор наклоняется к моему уху и с придыханием шепчет:
– Это наш НАРОДНЫЙ! А?! Завтра в вашем спектакле будет играть Михеича…
Мне становится совсем грустно. Признаться, к театру в последнее время у меня отношение сложное. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был 30-40 лет назад. Он стал хуже.Когда актёр, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть» не просто, а почему-то непременно с шипением и с судорогами во всём теле, то на меня от сцены веет тою же самой рутиной, которая скучна мне была еще 40 лет назад. Я помню впечатление от знаменитой сцены Таганковского спектакля, когда Гамлет Высоцкого начинает хрипеть-орать и мотать во все стороны руками, грозя вот-вот их оторвать и забросить в зрительный зал – зрелище более чем странное. Да и вообще, всякий раз выхожу я из театра консервативным более, чем когда вхожу туда. Не знаю, что будет через 50-100 лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением.
Лично я, если и хожу в театр, то именно не за катарсисом. Любопытно увидеть в новых ролях знакомых и знаменитых актёров. Ещё лет десять назад я с удовольствием, к примеру, посещал все премьеры в соседнем Ленкоме, дабы взглянуть на Леонова, Янковского, Абдулова, Караченцова в новых ролях. Не стало актёров, не стало и театра. Экзерсисы режиссёра Захарова мне мало интересны. К слову уж расскажу случай, похожий на анекдот. Лет двадцать с лишком тому Захаров поставил в своём театре спектакль «Школа для эмигрантов» по пьесе совсем тогда молодого автора по фамилии Липскеров. Оно бы и ладно, но Марк Анатольевич заявил во всеуслышанье: мол, он думал, что Россия перестала рождать Чеховых, но ошибся… Самое смешное, что сегодня 45-летний Липскеров (уже на год Антона Павловича пережил!) повторяет эту чушь, опровергнутую временем, без смущения и даже с гордостью.
Ну а зачем я сам решил связаться с театром – этого я вообще не понимаю. Тем более теперь, когда театр в упадке, окончательно деградировал. Одно дело, когда созданный одним тобой мир воспринимается читателем тоже наедине с самим собой, интимно, и совершенно другое, когда над твоим детищем поработал-поиздевался ещё и целый коллектив доморощенных гениев во главе с режиссёром, нашпиговал отсебятиной, самовыразился за твой счёт и результат выставил на потребу целой толпы зрителей, настроение которой зачастую зависит от погоды, состояния луны и реплик двух-трёх недоумков, как это было на ужасном провале премьеры «Чайки» в Александринском театре…
Из театра я, категорически отказавшись от банкета-ужина и явно обидев тем директора, отправляюсь в гостиницу в совершенно развинченном состоянии.
Предчувствие предстоящей катастрофы давит грудь.
X
Бессонная ночь изматывает меня.
Тишина давит. В Москве хотя бы шум машин за окном не прекращается круглые сутки. На лице, я чувствую, дрожание жилки – нечто вроде tic’a. Боль в боку всё усиливается.
Наконец уже утром за стеной начинает бормотать телевизор. Я встаю, беру обмотанный скотчем пульт с допотопного телеящика в своём номере, включаю. Внимательно смотрю-слушаю мировые новости (…землетрясение на Гаити – двести пятьдесят тысяч погибших… выборы на Украине – напряжение растёт… провальная Олимпиада… курс евро упал…), затем местные. Среди прочих: «Вчера прибыл в Баранов известный писатель Николай Степанович такой-то. Сегодня в областном театре драмы состоится премьера пьесы…» Очевидно, громкие имена создаются для того, чтобы жить особняком, помимо тех, кто их носит. Теперь моё имя безмятежно гуляет по Баранову. Картинкой к сообщению показывают встречу у губернатора. Я давно не видел себя со стороны: Господи, неужели это я?!
Сижу на неубранной постели, давлю на кнопки пульта, тупо смотрю в экран. В голову лезут нелепые мысли. Почему, думаю я, на всех каналах, в том числе и центральных, реклама крутится местная? Выходит, бедных барановцев местные телевизионщики лишают свободы выбора. Какая же это демократия? Вот я, допустим, житель Баранова, хочу смотреть не местный убогий канал (а их в Баранове штуки четыре) и его примитивную рекламу, а выбрал центральный 1-й или «Россию» – значит, я и рекламу хочу столичную смотреть…
Выключаю телевизор и просто смотрю в стену. Размышляю.
Зачем я, знаменитый человек, сижу в этом маленьком нумере, на этой кровати с чужим, серым одеялом? Зачем я гляжу на этот дешёвый телевизор и слушаю, как в коридоре дребезжат дрянные часы? Разве это достойно моей славы и моего высокого положения среди людей? И на эти вопросы я отвечаю себе усмешкой. Смешна мне моя наивность, с какою я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Я известен, моё имя произносится с благоговением, мой портрет был во всех газетах и энциклопедиях, свою биографию я читал даже в одном американском журнале – и что же из этого? Сижу я один-одинёшенек в чужом городе, на чужой кровати, тру ладонью свой больной бок… Семейные дрязги, немилосердие кредиторов, грубость железнодорожной прислуги, неудобства паспортной системы, дорогая и нездоровая пища в буфетах, всеобщее невежество и грубость в отношениях – всё это и многое другое, что было бы слишком долго перечислять, касается меня не менее, чем любого обывателя, известного только своему подъезду. В чём же выражается исключительность моего положения? Допустим, что я знаменит тысячу раз, что я герой, которым гордится моя Родина; во всех газетах пишут бюллетени о моей болезни, по электронной почте и мобильной связи идут уже ко мне сочувственные адреса от товарищей, учеников и публики, но всё это не помешает мне умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном одиночестве… В этом, конечно, никто не виноват, но, грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло.
Чтобы совсем не закиснуть с тоски, я прополаскиваю себя под душем, завтракаю в гостиничном буфете кофе с булочкой и, поглаживая ноющий бок, отправляюсь в город. Накануне я выторговал себе полдня личного времени, решив посвятить его знакомству с Барановом. Меня уже покатали по его центру на машине, впечатление предварительное он произвёл. Даже хмурость утра и гололёд под ногами, надеялся я, не помешают мне получше разглядеть-узнать и полюбить этот русский губернский центр, в котором я впервые оказался волею случая. Лица встречных барановцев хмуры под стать погоде. Каждый третий болтает на ходу по мобильнику. Ну да это и в Москве так. Впрочем, я не любитель разглядывать людей, мне интересней в новом месте пейзажи и здания. Уже вскоре я выхожу на Набережную, где открывается дивная перспектива: заснеженная река с фигурками рыбаков и лыжников, за рекой темнеет бесконечный лес, вдоль излучины на городском берегу то там, то здесь среди многоэтажек золотятся купола церквей.
Вот где надо жить человеку и дышать полной грудью!
Я редко захожу в церкви. Да и молиться не умею. Однако ж помню-знаю, что атмосфера внутри храма способна успокоить душу, утишить сердечную тоску. При условии, конечно, если не смотреть на лоснящиеся лица попов и не вслушиваться в их равнодушное бормотание. Я уже совсем было собираюсь зайти в скромную одноглавую церквушку, как вдруг, не доходя до неё, вижу-читаю вывеску на соседнем здании: «Медицинский центр». Рядом на щите – зазыв-реклама: «Томография. Полная диагностика за один час…»
Видно, сам Господь навёл…
XI
Через полтора часа я сижу в своём номере никакой. Я так оглушён, что не в силах даже по-настоящему устрашиться. В голове пульсируют бессвязные обрывки мыслей-дум: «Ну вот и всё… Значит, с тёзкой у нас одна судьба… Кому-то сообщить надо …»
Вспоминаю, что ни разу за сегодняшний день не звонил мобильник. Нахожу его в кармане и обнаруживаю: утром забыл включить звук. На дисплее сообщение о пяти пропущенных звонках от жены и получении двух sms. Одно сообщение от Иванова, второе от жены. Что ей нужно? Открываю: «Почему не отвечаешь?! Срочно позвони, у нас горе!!!»
Я читаю эту эсэмэску и пугаюсь ненадолго. Пугает меня не известие «у нас горе», а моё равнодушие, с каким я встречаю это известие. Набираю номер, звоню. Лидия Петровна, рыдая, сообщает: у Леры диагностирован СПИД. Я хочу сказать в ответ: «А у меня диагностирован…» Но вместо этого бормочу: мол, может, ошибка, может, всё будет хорошо…
– Возвратись скорей!.. – рыдает в трубку жена.
И правда, думаю я, надо сегодня же ехать…
Потом долго сижу на постели, обняв руками колена, и стараюсь познать самого себя. Самое время подводить итоги. Я экзаменую себя: чего я хочу? (Именно «хочу», а не «хотел» – в прошедшем времени думать-размышлять никак не получается.) Я хочу, чтобы наши жёны, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Ещё что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Ещё что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой, литературой, вообще – ЧТО будет. Хотел бы ещё пожить лет десять… Дальше что?
А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу ещё придумать. И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моём желании жить, в этом сиденье на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всём, нет чего-то общего, что связывало бы всё это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует моё воображение, даже самый искусный аналитик не найдёт того, что называется общей идеей, или Богом живого человека.
А коли нет этого, то, значит, нет и ничего.
Всю жизнь я ставил себе в заслугу, что не интересуюсь политикой, не вступал никогда ни в какие партии. (Позволял лишь порой шуточки в узком кругу: дескать, нами в последние два десятка лет правит президент Горелпут, страна наша стала Горелпутией, а мы все превратились в горелпутов.) Ну а разве Союз писателей – это не та же партия? Тем более сейчас, когда он разделён на несколько СП явно по политическим мотивам…
Я стою посреди комнаты, зажав голову руками. В мозгу утомительно пульсирует фраза-афоризм из «Скучной истории»: «Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть…»
Мне вдруг вспоминается наш Фарисей. Если б он в сей момент очутился в этой гостиничной норе! Взобрался ко мне на руки, заурчал-запел свою песню, которая действует на меня всегда так умиротворяюще… Поразительно, почему Антон Павлович терпеть не мог котов?
Легкий стук в дверь. Кому-то я нужен.
– Кто там? Войдите!
Дверь отворяется, и я, удивлённый, делаю шаг назад. Передо мной стоит Саша.
– Здравствуйте, – говорит она, тяжело дыша от ходьбы по лестнице. – Не ожидали?
Она расстёгивает дублёнку,садится и продолжает, стараясь не упустить шутливый тон:
– Что же вы не здороваетесь?
– Очень рад видеть тебя, – говорю я, пожимая плечами, – но я удивлён… Ты точно с неба свалилась. Зачем ты здесь?
– Я? Да вот решила… сюрпризом, на вашу премьеру… Не рады?
Молчание. Вдруг она порывисто встаёт и идёт ко мне.
– Николай! – говорит она, бледнея и сжимая на груди руки. – Николай! Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного Бога скажи скорее, сию минуту: что мне делать? Говори, что мне делать?
– Что же я могу сказать? – недоумеваю я. – Ничего я не могу.
– Говори же, умоляю тебя! – продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом. – Клянусь тебе, что я не могу дольше так жить! Сил моих нет!
Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки.
– Помоги мне! Помоги! – умоляет она. – Не могу я больше!
В сумочке у неё звонит телефон. Саша судорожно достаёт его, заодно и носовой платок, утирает слёзы, прижимает трубку к уху. Я слышу-узнаю голос Иванова:
– Алло! Ты куда исчезла?!
Саша захлопывает телефон, кидает в сумку. Она хватает мою руку, сжимает, впиваясь ногтями, до боли:
– Скажи! Говори же: что мне делать?
Всхлипы мешают ей говорить.
– Пойдём, Саша, пообедаем, – говорю я, натянуто улыбаясь. – Будет плакать!
И тотчас же я прибавляю упавшим голосом:
– Меня скоро не станет, Саша…
Она не слушает или не слышит.
– Хоть одно слово, хоть одно слово! – плачет она, протягивая ко мне руки. – Что мне делать?
– Чудачка, право… – бормочу я. – Не понимаю! Такая умница и вдруг – на тебе! расплакалась…
Наступает молчание. Саша достаёт расчёску, причёсывает перед зеркалом свою чёлочку, вытирает потёкшую тушь, подправляет помадой губы.
– Давай, Саша, пообедаем, – повторяю я.
– Нет, благодарю, – отвечает она холодно.
Ещё одна минута проходит в молчании.
– Мне нравится Баранов, – говорю я. – Светлый город.
– Да, пожалуй… Уютный…Я вообще решила: брошу Москву и буду здесь жить.
Я знаю – Саша на такое способна.
– Это ты зря! – говорю я. – Тебе надо жить только в столице и – писать, писать и писать…
– Вы, Николай Степаныч, прямо как Ленин, – язвит Саша и вдруг лицо её кривится, искажается гримасой. – Это, наконец, жестоко! Тебе хочется, чтобы я вслух сказала правду? Изволь, если это… это тебе нравится! Таланта у меня нет! Таланта нет и… и много самолюбия! Вот!
Сделав такое признание, она отворачивает от меня лицо, смотрит в стену.
Я не знаю, что отвечать. Грустно.
Проходит несколько томительных минут. Саша встаёт и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягивает мне руку. Рука у неё холодная, словно чужая.
– Поеду домой…
Она идёт к двери, отворяет. Я жду, что она обернётся, перед тем как уйти, но Саша не оборачивается.
Я сижу на кровати и слушаю, как в коридоре удаляются-затихают её шаги.
Прощай, мое сокровище!
/2010/