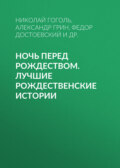Николай Лесков
Обойдённые
Глава третья
Шпилька
Перед Новым годом у Анны Михайловны была куча хлопот. От заказов некуда было деваться; мастерицы работали рук не покладывая; а Анна Михайловна немножко побледнела и сделалась еще интереснее. В темно-коричневом шерстяном платье, под самую шею, перетянутая по талии черным шелковым поясом, Анна Михайловна стояла в своем магазине с утра до ночи, и с утра до ночи можно было видеть на противоположном тротуаре не одного, так двух или трех зевак, любовавшихся ее фигурою.
– Если б я была хоть вполовину так хороша, как эта дура, – рассуждала с собою m-lle Alexandrine, глядя презрительно на Анну Михайловну, – что бы я только устроила… Tiens, oui! Oui… une petite maisonnette et tout ca.[29]
Анна же Михайловна, разумеется, ко всем поклонениям своей красоте оставалась совершенно равнодушной.
Она держала себя с большим достоинством. С таким тактом встречала она своих то надменных, то суетливых заказчиц, так ловко и такими парижскими оборотами отпарировала всякое покушение бомонда потретировать модистку с высоты своего величия, что засмотреться на нее было можно.
В один из таких дней магазин Анны Михайловны был полон существами, обсуждавшими достоинство той и другой шляпки, той и другой мантильи. Анна Михайловна терпеливо слушала пустые вопросы и отвечала на них со «вниманием, щадя пустое самолюбие и смешные претензии. В час в дверь вошел почтальон. Письмо было из-за границы; адрес надписан Дашею.
– Je vous demande bien pardon, je dois lire cette lettre inimediatement,[30] —сказала Анна Михайловна.
– Oh! Je vous en prie, lisez! Faites moi la grace de lire,[31] —отвечала ей гостья.
Анна Михайловна отошла к окну и поспешно разорвала конверт. Письмо все состояло из десяти строк, написанных Дашиной рукой: Дорушка поздравляла сестру с новым годом, благодарила ее за деньги и, по русскому обычаю, желала ей с новым годом нового счастья. На сделанный когда-то Анной Михайловной вопрос: когда они думают возвратиться, Даша теперь коротко отвечала в post scriptum:
„Возвращаться мы еще не думаем. Я хочу еще пожить тут. Не хлопочи о деньгах. Долинский получил за повесть, нам есть чем жить. В этом долге я надеюсь с ним счесться“.
Долинский только приписывал, что он здоров и что на днях будет писать больше. Этим давно уже он обыкновенно оканчивал свои коротенькие письма, но обещанных больших писем Анна Михайловна никогда „на днях“ не получала. Последнее письмо так поразило Анну Михайловну своею оригинальною краткостью, что, положив его в карман, она подошла к оставленным ею покупательницам совершенно растерянная.
– Не от mademoiselle Доры ли? – спросила ее давняя заказчица.
– Да, от нее, – отвечала как могла спокойнее Анна Михайловна.
– Здорова она?
– Да, ей лучше.
– Скоро возвратится?
– Еще не собирается. Пусть живет там; там ей здоровее.
– О, да, это конечно. Россия и Италия—какое же сравнение? Но вам без нее большая потеря. Ты не можешь вообразить, chere Vera, – отнеслась дама к своей очень молоденькой спутнице, – какая это гениальная девушка, эта mademoiselle Дора! Какой вкус, какая простота и отчетливость во всем, что бы она ни сделала, а ведь русская! Удивительные руки! Все в них как будто оживает, все изменяется. Вообще артистка.
– Где же она теперь? – спросила m-lle Vera.
– В Ницце, – отвечала Анна Михайловна.
– В Ницце?!
– Да, в Ницце.
– Я тоже провела это лето с матерью в Ницце.
– Это m-lle Vera Онучина, – назвала дама девушку. Анна Михайловна поклонилась.
– Очень может быть, что я где-нибудь встречала там вашу сестру.
– Очень немудрено.
– С кем она там?
– С одним… нашим родственником.
– Если это не секрет, кто это такой?
– Долинский.
– Долинский, его зовут Нестор Игнатьевич?
– Да, его так зовут.
– Так он ей не муж?
– Нет. С какой стати?
– Он вам родственник?
– Да, – отвечала Анна Михайловна, проклиная эту пытливую особу, и, чтобы отклонить ее от допроса, сама спросила – Так вы знали… видели мою сестру в Ницце, вы ее знали там?
– Une tete d'or![32] Кто же ее не знает? Вся Ницца знает une tete d'or.
– Это, верно, ее там так прозвали?
– Да, ее все так зовут. Необыкновенно интересное лицо; она ни с кем не знакома, но ее все русские знают и никто ее иначе не называет, как une tete d'or. Мой брат познакомился где-то с Долинским, и он бывал у нас, а сестра ваша, кажется, совсем дикарка.
– Нну… это не совсем так, – произнесла Анна Михайловна и спросила:
– Здорова она на вид?
– Кажется; но что она прекрасна, это я могу вам сказать наверно, – отвечала, смеясь, незнакомая девица.
– Да, она хороша, – сказала Анна Михайловна и рассеянно спросила – А господин Долинский часто бывал у вас?
– О, нет! Три или четыре раза за все лето, и то брат 'его затаскивал. У нас случилось много русских и Долинский был так любезен, прочел у нас свою новую повесть. А то, впрочем, и он тоже нигде не бывает. Они всегда вдвоем с вашей сестрой. Вместе бродят по окрестностям, вместе читают, вместе живут, вместе скрываются от всех глаз!.. кажется, вместе дышат одной грудью.
– Как я вам благодарна за этот рассказ! – проговорила Анна Михайловна, держась рукой за стол, за которым стояла.
– Мне самой очень приятно вспомнить обворожительную tete d'or. А знаете, я через месяц опять еду в Ниццу с моей maman. Может быть, хотите что-нибудь передать им?
– Merci bien.[33] Я им пишу часто. Светская дама со светской девицей вышли.
– Как она забавно менялась в лице, – заметила девица.
– Ну, да еще бы! Это ее amant..[34]
– Я так и подумала. Какой оригинальный случай. Дамы засмеялись.
– Ив каком, однако, странном кружке вращаются эти господа! – пройдя несколько шагов, сказала m-lle Vera.
– И, та chere![35] В каком же по-твоему кружке им должно вращаться?
– А он умен, – в раздумье продолжала девица.
– Мало ли, мой друг, умных людей на свете?
– И довольно интересен, то есть я хотела сказать, довольно оригинален.
Дама взглянула на девицу и саркастически улыбнулась.
– Не настолько, однако, надеюсь, интересен, – пошутила она, – чтобы приснился во сне mademoiselle Вере.
– М-м-м… за сны свои, та chere Barbe, никто не отвечает, – отшутилась m-lle Вера, и они обе весело рассмеялись, встретились со знакомым гусаром и заговорили ни о чем.
Глава четвертая
Туманная даль близится и яснеет
Как только дамы вышли из магазина, Анна Михайлов на написала к Илье Макаровичу, прося его сегодня же принести ей книжку журнала, в котором напечатана последняя повесть Долинского, и ждала его с нетерпением. Илья Макарович через два часа прибежал из своей одиннадцатой линии, немножко расстроенный и надутый, и принес с собою книжку.
– Что же это Несторка-то! – начал он, только входя в комнату.
– А что? – спросила Анна Михайловна, перелистывав с нетерпением повесть.
– И повести вам не прислал?
– Верно, у него у самого ее нет. Не скоро доходит за границу.
Илья Макарович заходил по комнате и все дмухал сердито носом.
– Читали вы повесть? – спросила Анна Михайловна.
– Читал, как же не прочесть? Читал.
– Хороша?
– Хорошую написал повесть.
– Ну, и слава богу.
– Денег он пропасть зарабатывает какую!
– Еще раз слава богу.
– А что, он вам пишет?
– Пишет, – медленно проговорила Анна Михайловна. Илья Макарович опять задмухал.
– Водчонки пропустить хотите? – спросила Анна Михайловна, не подымая глаз от книги.
– Нет, черт с ней! Чаишки разве; так от скуки – могу.
Анна Михайловна позвонила. Подали самовар.
– Вы на меня не в претензии? – спросила она Илью Макаровича.
– За что?
– Что я при вас читаю.
– Сделайте милость!
– Скучно без них ужасно, – сказала Анна Михаиловна, обваривая чай.
– И чего они там сидят?
– Для Даши.
Илья Макарович опять задмухал.
– Знаете, что я подозреваю? – сказал он. – Это у него все теперь эти идеи в голове бродят.
– Попали пальцем в небо.
Илья Макарович хотел употребить дипломатическую, успокоительную хитрость и очень сконфузился, что она не удалась.
– А вот что, Анна Михайловна! – сказал он, пройдясь несколько раз по комнате и снова остановись перед хозяйкой, сидевшей за чайным столом над раскрытою книгою журнала.
– Что, Илья Макарович?
Художник долго смотрел ей в глаза и, наконец, с добродушнейшей улыбкой произнес:
– Махну-ка я, Анна Михайловна, в Италию.
– Это же ради каких благ?
– Еще раз перед старостью небо теплое увидеть. Душу свою обогрею.
– Э, не сочиняйте-ка вздоров! У кого душа тепла, так везде она будет тепла, и под этим небом.
Илья Макарович не умел сказать обиняком то, что он думал.
– Их посмотрю, – сказал он прямо.
– Ну, и что ж будет?
Илья Макарович долго молчал, менялся в лице и моргал глазами.
– Обрезонить надо человека; вот что будет! – наконец вымолвил он с таинственным придыханием.
– Это вы Долинского хотите обрезонивать! Он не мальчик, Илья Макарович. Ему уже не двадцать лет, сам понимает, что делает.
– И ее, – еще тише продолжал художник.
– Ее?
Илья Макарович сделал самую строгую мину и качнул в знак согласия головою.
– Дашу? – переспросила его Анна Михайловна.
– Ну, да.
– Не знаете вы, за что беретесь, мой милый! – отвечала, улыбнувшись, Анна Михайловна.
– Слово надо сказать; одно слово иногда заставляет человека опомниться, – таинственно произнес художник.
– Кому же это вы будете говорить, что вы будете говорить, и по какому праву, наконец, Илья Макарыч?
– Право! С подлецом нечего разбирать прав!
– Пожалуйста, только не горячитесь.
– Нет-с, я не горячусь и не буду горячиться, а я только хочу ему высказать все, что у меня накипело на сердце, только и всего; и черт с ним после.
Анна Михайловна махнула рукой.
– Да и ей тоже-с. Воля милости ее, а пусть слушает. А уж я наговорю!
– Даше?
– Да-с.
– О, Аркадия священная! Даже не слова человеческие, а если бы гром небесный упал перед нею, так она… и на этот гром, я думаю, не обратила бы внимания. Что тут слова, когда, видите, ей меня не жаль; а ведь она меня любит! Нет, Илья Макарович, когда сердце занялось пламенем, тут уж ничей разум и никакие слова не помогут!
– Так что ж они о себе теперь думают! – грозно крикнул и привскочил с места Журавка.
– А ничего не думают!
– Как же ничего не думают?
– А так—зачем думать?
– Как зачем думать? Помилуйте, Анна Михайловна, да это… что же это такое вы сами-то наконец говорите?
– Я вам говорю, что они ничего не думают.
– Да что же он-то такое? После этого ведь он же выходит подлец! – Илья Макарович в азарте стукнул кулаком по столу и опять закричал: —Подлец!
– За что вы его так браните? Ну, что от этого Поправится или получшеет?
– Зачем же он сбил девушку? Анна Михайловна улыбнулась.
– Чего вы смеетесь?
– Над вами, Илья Макарыч! Ничего-то вы не разумеете, хоть и в Италии были.
– Чего-с я не разумею? Анна Михайловна промолчала.
– Нет-с, позвольте же, Анна Михайловна, если уж начали говорить, так вы извольте же договаривать: чего это-с я не разумею?
– Да как вы можете утверждать, что он ее с чего-нибудь сбивал? – сказала Анна Михайловна.
Илья Макарович дмухнул носом и, помолчав, спросил:
– Так как же это по-вашему было?
– Дору никто не собьет и… никто Илью Макаровича ни от чего не удержит.
Журавка опять забегал.
– Да… однако ж… позвольте, на что же это она бьет, в чью же-с голову она бьет?! – спросил он, остановившись.
– Любит.
– Да-ну-те-ж бо, бог с вами, Анна Михайловна, что ж будет из такой любви?
– Что из любви бывает – радость, счастье и жизнь.
– Да ведь позвольте… мы ведь с вами старые друзья. Ведь… вы его наконец любите?
– Ну-с; так что же далее? – произнесла, немного конфузясь, Анна Михайловна.
– И он вас любил?
– Положим.
– Ничего не понимаю! – крикнул, пожав плечами, Илья Макарович и опять ожесточенно забегал, мотая по временам головою и повторяя с ажитацией, – ничего… ровно ничего не понимаю! Хоть голову мою срубайте, ничего не понимаю!
– А как же это вы, однако, поняли, что там что-то есть? – спросила после паузы Анна Михайловна с целью проверить свои соображения чужими.
– Да так, просто. Думаю себе иной раз, сидя за мольбертом: что он там наконец, собака, делает? Знаю, ведь он такой олух царя небесного; даже прекрасного, шельма, не понимает; идет все понурый, на женщину никогда не взглянет, а женщины на него как муха на мед. Душа у него такая кроткая, чистая и вся на лице.
– Да, – уронила Анна Михайловна, вспоминая лицо Долинского и опять невинно смущаясь.
– Не полюбить-то его почти нельзя!
– Нельзя, – сказала, улыбнувшись, Анна Михайловна.
– То есть именно, и говорю, черт его знает, каналью, ну, нельзя, нельзя.
– Нельзя, – подтвердила Анна Михайловна несколько серьезнее.
– Ну, вот и думаю: чего до греха, свихнет он Дорушку!
– Ничего я не вижу отсюда, а совершенно уверена… Да, Илья Макарыч, о чем это мы с вами толкуем, а?.. разве они не свободные люди?
Художник вскочил и неистово крикнул:
– А уж это нет-с! Это извините-с, бо он, низкий он человек, должен был помнить, что он оставил!
– Эх, Илья Макарыч! А еще вы художник, и „свободный художник“! А молодость, а красота, а коса золотая, сердце горячее, душа смелая! Мало вам адвокатов?
– То есть черт его знает, Анна Михайловна, ведь в самом деле можно с ума сойти! – отвечал художник, заламывая на брюшке свои ручки.
– То-то и есть. Вспомните-ка ее песенку:
То горделива, как свобода, То вдруг покорна, как раба.
– Да, да, да… то есть именно, я вам, Анна Михайловна, скажу, это черт знает что такое!
Долго Анна Михайловна и художник молчали. Одна тихо и неподвижно сидела, а другой все бегал, а то дмухал носом, то что-то вывертывал в воздухе рукою, но, наконец, это его утомило. Илья Макарович остановился перед хозяйкой и тихо спросил:
– Ну, и что ж делать, однако?
– Ничего, – так же тихо ответила ему Анна Михайловна.
Художник походил еще немножко, сделал на одном повороте руками жест недоумения и произнес:
– Прощайте, Анна Михайловна.
– Прощайте. Вы домой прямо?
– Нет, забегу в Палкин, водчонки хвачу.
– Что ж вы не сказали, здесь бы была водчонка, – спокойно говорила Анна Михайловна, хотя лицо ее то и дело покрывалось пятнами.
– Нет, уж там выпью, – рассуждал Журавка.
– Ну, прощайте.
– А написать ему можно? – шепотом спросил художник, снова возвращаясь в комнату в шинели и калошах.
– Ни, ни, ни! Чужая собака под стол, знаете пословицу? – отвечала Анна Михайловна, стараясь держаться шутливого тона.
– Господи боже мой! Какая вы дивная женщина! – воскликнул восторженно Журавка.
– Такая, которую всегда очень легко забыть, – отшутилась Анна Михайловна.
Глава пятая
Немножко назад
С тех пор как Долинский с Дарьей Михайловной отъехали от петербургского амбаркадера варшавской железной дороги, они проводили свое время в следующих занятиях: Дорушка утерла набежавшие слезы и упорно смотрела в окошко вагона. Природа ее занимала, или просто молчать ей хотелось, – глядя на нее, решить было трудно. Долинский тоже молчал. Он попробовал было заговорить с Дашей, но та кинула на него беглый взгляд и ничего ему не ответила. Подъезжая к Острову, Даша сказала, что она устала и дальше ехать не может. Отыскали в гостинице нумер с передней. Долинский приготовил чай и спросил ужин.
Даша ни к чему не притронулась.
– Ну, так ложитесь спать, – сказал ей Долинский.
– Да, я спать хочу, – отвечала Даша.
Она легла на кровати в комнате, а Долинский завернулся в шинель и лег на диванчике в передней.
Они оба молчали. Даша была не то печальна, не то угрюма; Долинский приписывал это слабости и болезненной раздраженности. Он не беспокоил ее никакими вопросами.
– Прощайте, моя милая нянюшка! – слабо проговорила через перегородку Даша, полежав минут пять в постели.
– Прощайте, Дорушка. Спите спокойно.
– Вам там скверно, Нестор Игнатьич?
– Нет, Дорушка, – хорошо.
– Потерпите, мой милый, ради меня, чтобы было о чем вспомнить.
– Спите, Дорушка.
Больная провела ночь очень покойно и проснулась утром довольно поздно. Долинский нашел женщину, которая помогла Даше одеться, и велел подать завтрак. Даша кушала с аппетитом.
– Нестор Игнатьич! – сказала она, оканчивая завтрак, – вот сейчас вам будет испытание, как вы понимаете наставления моей сестры. Что она приказала вам на мой счет?
– Беречь вас.
– А еще?
– Служить вам.
– А еще?
– Ну, что ж еще?
– Право, не знаю, Дарья Михайловна.
– Вот память-то!
– Да что же? Она просила исполнять ваши желания, и только.
– Ну, наконец-то! Исполнять мои желания, а у меня теперь есть желание, которое не входило в наши планы: исполните ли вы его?
– Что же это такое, Дорушка?
– Свезите меня в Варшаву. Смерть мне хочется посмотреть поляков в их городе. У вас там есть знакомые?
– Должны быть; но как же это сделать? Ведь это нам составит большой расчет, Дорушка, да и экипажа нет.
– Как-нибудь. Вы не поверите, как мне этого хочется. Фактор в Вильно нашел старую, очень покойную коляску, оставленную кем-то из варшавян, и устроил Долинскому все очень удобно. Железная дорога тогда еще была не окончена. Погода стояла прекрасная, путешественники ехали без неприятностей, и Даша была очень счастлива.
– Люблю я, – говорила она, – ехать на лошадях. Отсталая женщина – терпеть не могу железных дорог и этих глупых вагонов.
Долинский смеялся и рассказывал ей разные неприятности путешествия на лошадях по России.
– Все это может быть так; я только один раз всего ехала далеко на лошадях, когда Аня взяла меня из деревни, но терпеть не могу, как в вагонах запирают, прихлопнут, да еще с наслаждением ручкой повертят: дескать, не смеешь вылезть.
Дорога шла очень приятно. Даша много спала в покойном экипаже и говорила, что она оживает. В самом деле, несмотря на дорожную усталость, она чувствовала себя крепче и дышала свободнее.
В Варшаве они разместились очень удобно в большом номере, состоявшем из трех комнат. Долинский отыскал много знакомых поляков с Волыни и Подолии и представил их Даше. Даша много с ними говорила и осталась очень довольна новыми знакомствами.
Долинский нашел тоже пани Свентоховскую, известную варшавскую модистку, с которою Анна Михайловна и Даша познакомились в Париже и которую принимали у себя в Петербурге. Пани Свентоховская, женщина строгая и ультракатоличка, приехала к Даше, когда Долинского не было дома, и рассыпалась перед Дорой в поздравлениях и благожеланиях.
– Да с чем вы меня поздравляете? – спросила Даша.
– Как с чем? С мужем!..
– С каким мужем? – рассмеявшись, спросила ее Даша.
– А пан Долинский!
Даша еще громче рассмеялась.
– Да как же вы едете? – спросила несколько обиженная ее смехом полька.
– Простите мне, мой ангел, этот глупый смех, – отвечала Даша, обтирая выступившие у нее от хохота слезы, и рассказала пани Свентоховской, как устроилась ее поездка. Солидная пани Свентоховская покачала головой.
– Что ж, вы разве находите это очень уж неприличным? А будто приличнее было бы оставить меня умирать для приличия?
– Не то, что очень неприлично, а…
– А что?
– Оно… небеспечно.
Даша опять захохотала и, немного покраснев, сказала:
– Какие пустяки!
Когда пришел Долинский, не застав уже пани Свентоховской, Даша встретила его веселым смехом.
– Чего вы так смеетесь, Дора? – осведомился Долинский.
– Знаете, Нестор Игнатьич, что вы в опасности.
– В какой опасности?
– В опасности.
– Полноте шалить, Дора! Скажите толком, – отвечал несколько встревоженный Долинский.
– Не пугайтесь, милая няня! Опасностью вам угрожаю я. Я, своей собственной персоной!
Даша рассказала опасения madame Свентоховской.
И он и она усердно смеялись.
Вечером Даша и Долинский долго просидели у пани Свентоховской, которая собрала нескольких своих знакомых дам с их мужьями, и ни за что не хотела отпустить петербургских гостей без ужина. Долинский ужасно беспокоился за Дашу. Он не сводил с нее глаз, а она превесело щебетала с польками, и на ее милом личике не было заметно ни малейшего признака усталости, хотя час был уже поздний.
– Домой пора, Дора, – не раз шептал ей Долинский.
– Погодите – невежливо же уехать?
– Заболеете.
– Ах! Как вы мне надоели с вашим менторством. Долинский отходил прочь.
Вернулись домой только во втором часу. Войдя в номер, Долинский взял Дашу за обе руки и сказал:
– Смерть я боюсь за вас, Дорушка! Того и гляжу, что вы сляжете.
– Не бойтесь, не бойтесь, мой милый, – отвечала она, пожимая его руки.
– А вы слышали, что о вас говорили паны? – спросил Долинский, усадив Дору в кресло.
– Нет. Что они говорили?
– Говорили: какая хорошенькая московка! Даша сделала гримасу и сказала:
– Это мы и без них знали;—а потом спросила – А вы слышали, что о вас говорили пани?
– Нет.
Даша рассмеялась.
– Говорили, что вы Анин „коханок“.
– Кому это они говорили?
– Сами с собой говорили.
– Ворона весть принесла.
– Ворона, именуемая панею Свентоховскою.
– А ей кто доложил?
– Ах, Нестор Игнатьич! Слухом, сударь, земля полнится!
Долинский ничего не отвечал.
– А странный вы господин! – начала, подумав, Даша. – Громами гремите против предрассудков, а самим ух как жутко становится, если дело начистоту выходит! Что же вам! Разве вы не любите сестры или стыдитесь быть ее, как они говорят „коханком“?
– Да мне все равно, только… зачем? Я ведь знаю, что у этих господ значит коханек. – Мне это, конечно, все равно, а…
– А кому ж неравно? Уж не за сестру ли вы печалитесь? Мы с ней люди простые, в пансионах не воспитывались: едим пряники неписаные.
– Да я ж ведь ничего и не сказал, кажется.
– А только подумал! – отвечала с иронией Даша. – Нет. Нестор Игнатьич, крепко еще, верно, сидят в нас бабушкины-то присказки!
Даша тоже задумалась и стала смотреть на свечу, а Долинский молча прошелся несколько раз по комнате и сказал:
– Ложитесь спать, Даша. Даша не отвечала.
– Идите в постель, Дора, – повторил через минуту Долинский.
Даша молча встала, пожала Долинскому руку и, выходя из комнаты, громко продекламировала:
О, жалкий, слабый род! О, время
Полупорывов, долгих дум
И робких дел! О, век! О, племя!
Без веры в собственный свой ум!