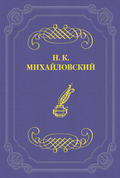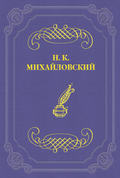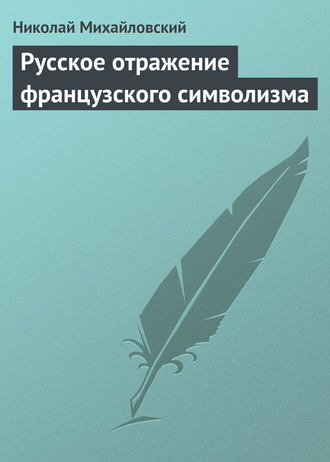
Николай Михайловский
Русское отражение французского символизма
Г-н Мережковский глубоко огорчен этим унижением человеческой природы, этим ее потускнением, и я могу только сочувствовать ему. Я уверен, что и он, прочтя только что написанное, скажет: это верно. Но я не в первый раз это говорю, а между тем г. Мережковский утверждает, что я „не хочу примириться с высшим сознательным и божественным идеализмом“. Я прежде всего не хочу путаницы и двусмысленности вообще, а в серьезных делах в особенности. Что это, собственно, значит – „высший сознательный и божественный идеализм?“ Я вынужден и г. Мережковскому напомнить изречение: „не всякий говорящий: „Господи! Господи!“ внидет в царствие небесное“{16}. В своем растрепанном мышлении и еще более растрепанном изложении он играет словами „религиозный“, „художественный“, „божественный“, „мистический“, „идеалистический“, не давая себе труда определять, как он их понимает, и чаще всего употребляя их как синонимы. Посмотрим, к чему это ведет.
Вернемся к мнениям г. Мережковского о произведениях Тургенева. Говорит он на эту тему многое разное и совершенно несогласимое, как мы уже видели. Краткости ради, я предложу читателю вдуматься лишь в ту точку зрения, по которой, между прочим, выходит, что рассказ „Собака“ должен быть поставлен выше, чем „Накануне“ и „Отцы и дети“. Я имел случай убедиться, что „Собаки“ многие даже не помнят, а потому расскажу вкратце ее содержание.
В каком-то обществе зашла речь о возможности или невозможности явлений, „несообразных с законами натуры“, как выражается один из собеседников. По этому поводу другой собеседник рассказал случай из своей жизни. Это был небогатый помещик, отставной офицер, проигравшийся в карты и кое-как пристроившийся к маленькому месту в столице. Звали его Порфирий Капитоныч. А случай с ним такой был. Однажды в деревне он ночью слышит, что у него под кроватью скребется и чешется собака, тогда как собак он не держал. Зажег свечку, посмотрел под кровать – никого нет. А как затушил свечку, так опять собака возится. Лакея позвал – то же самое; в темноте и лакей собаку слышит, а при свете никого нет. И так подряд из ночи в ночь. Сосед приехал в гости, ночевать остался, и при нем все то же. Поехал Порфирий Капитоныч в город и остановился у знакомого старика раскольника. Таинственная ночная собака и там от него не отстала, к великому негодованию хозяина-раскольника, который считал собак нечистой тварью. Узнавши, однако, в чем дело, раскольник смилостивился, решил, что „это есть явление, а либо знамение“, и направил Порфирия Капитоныча к другому старику раскольнику, который уже окончательно рассудил: „это вам не в наказание послано, а в предостережение“. Идите, говорит, на базар, купите щенка и держите того щенка при себе денно и нощно, „ваши видения прекратятся, да и, кроме того, будет вам та собака на потребу“. Купил Порфирий Капитоныч щенка на базаре, и все произошло, как по писаному. Видения прекратились, а когда щенок вырос, то спас Порфирия Капитоныча от бешеной собаки, сразившись с нею…
По форме рассказ принадлежит к числу слабейших произведений Тургенева, с чем, я полагаю, и г. Мережковский согласится. Как художественное произведение, со стороны формы, сравнивать „Собаку“ с „Накануне“ или „Отцами и детьми“– даже не смешно. Г-н Мережковский подкуплен самою фабулою рассказа, его „мистическим содержанием“. Содержание, несомненно, мистическое. Но при чем тут прочие слова, представляющие собою, по мнению г. Мережковского, синонимы мистицизма? Неужто в самом деле заслуживает названия „божественного идеализма“ история о том, как щенок и два старика раскольника послужили орудиями спасения проигравшегося в карты Порфирия Капитоныча от бешеной собаки? Я отказываюсь понимать смысл такого произвольного сочетания слов, как „божественный идеализм“. Но я достоверно знаю, что к области религии рассказанный в „Собаке“ анекдот не имеет ровно никакого отношения. Или, может быть, его место в сфере науки? Ведь г. Мережковский обещал нам „сочетание идеализма с последними выводами точных знаний, в свете безгранично свободной научной критики и научного натурализма“…
Читатель без труда найдет в книжке г. Мережковского другие многочисленные следы беспорядочной игры словами и понятиями.
Я обращаю особенное ваше внимание на мотивы, по которым он считает „Сои Макара“ лучшим из произведений В. Г. Короленко, а „Парамона юродивого“ лучшим из произведений Гл. Успенского (стр. 68 и 71) Интересно также подстрочное примечание на странице 85, где автор одобряет г. Михайлова (Шеллера) за то, что он „чувствует потребность покинуть знакомую обстановку, из современного Петербурга перенестись ни более ни менее как в древнюю Персию времен царя Артаксеркса, в мир патриархальной фантазии“. Тут же восторги перед „мистическими легендами“ г. Лескова. Приглядываясь к подобным страницам, а равно к тем, где „статистика“ и „политическая экономия“ являются чуть не ругательными словами, мы можем прийти к окончательному заключению относительно г. Мережковского.
Г-н Мережковский не пророк и не герой нового течения, а жертва недоразумения. Он сам страдает недостатком того всеохватывающего начала, за отсутствие которого громит русскую литературу. Он лишь жаждет религиозного объединения своих понятий о причинной связи явлений и своего нравственного чувства, но думает удовлетворить свою жажду в безводной, давно высохшей пустыне и принимает миражи за действительность. По странному, но довольно обыкновенному в неустойчивых, колеблющихся натурах противоречию, он даже не хочет, чтобы расстилающийся перед ним красивый мираж превратился в настоящую действительность, где он в самом деле мог бы утолить жажду. Этот мираж красив именно как мираж и, следовательно, представляет особенную ценность для художника и пламенного поклонника красоты. Но он, кроме того, не обязывает, даже не призывает к жизни в полном глубоком значении этого слова, а г. Мережковский и хочет, и в то же время боится жить. Для человека жить не значит пить, есть и спать. Многие люди живут этой жизнью, но это недостойная человека жизнь, и г. Мережковский ее презирает. Жить – значит мыслить», чувствовать и действовать, причем все эти три элемента должны быть в полном согласии, ибо это равноправные и друг друга поддерживающие функции или стороны жизни. Формула их сочетания меняется в истории, но она всегда есть или составляет великое искомое. Благодаря бесчисленным противоречиям г. Мережковского, я не умею сказать, как понимает он свое собственное отношение к этой формуле: считает ли он себя обладателем ее или только ищущим. Во всяком случае, со стороны дело виднее, и для меня нет сомнения, что он ищет, но ищет неверными приемами и там, где найти нельзя. Почему он так радуется, что г. Михайлов в каком-то своем произведении (мне оно неизвестно) «покинул знакомую обстановку и перенесся из современного Петербурга ни более ни менее как в древнюю Персию времен царя Артаксеркса»? Готов верить, что это прекрасное произведение, но г. Мережковский ничего не говорит об его красотах и радуется самому факту удаления романиста ко временам Артаксеркса. Я и против этого факта ничего не имею. Выбор того или другого исторического момента для рамки поэтического содержания ничего не говорит против произведения, но сам по себе ничего не говорит и за него, а по г. Мережковскому, уж и то превосходно, что автор из современного Петербурга в «мир патриархальной фантазии» удалился. Почему такая немилость к Петербургу? Потому же, почему «Собака» выше больших романов Тургенева. Как и французских символистов, неясность собственной мысли г. Мережковского влечет его от настоящей жизни ко всему неясно мерцающему, таинственному, мистическому, далекому. Отсюда же и его комическое негодование против статистики и политической экономии. На словах он обещает «сочетание идеализма с последними выводами точных знаний», а на деле даже статистики боится. «Мистицизм» он проповедует открыто и даже с гордостью. Это его дело, но напрасно он отождествляет слова «мистический» и «религиозный». Это не только не одно и то же, а даже две противоположности. Религия призвана руководить человека в жизни, освещать ему его трудный, извилистый, полный соблазнов путь, и потому ей нечего бояться статистики. Другое дело мистицизм. Он, если позволено так выразиться, тушит светоч религии и уводит человека из настоящей действительной жизни куда-нибудь в туманную даль: «в мир патриархальной фантазии» времен Артаксеркса или в ту фантастическую область, где «леший бродит, русалка на ветвях сидит» и таинственная собака спасением какого-то Порфирия Капитоныча занимается. Я не хочу сказать этим, что фантастические, или отдаленно исторические, или прямо мифологические сюжеты не подлежат художественной эксплуатации. Дело не в сюжете, а в том, как к нему художник относится; для г. Мережковского сюжет все губит и все спасает. Короленко в «Сне Макара» решительно тот же, что и во всех других своих произведениях: то же отношение к жизни, те же упования и идеалы. Но фантастический сюжет «Сна Макара» выделяет для г. Мережковского этот рассказ на недосягаемую высоту над всеми писаниями Короленко. То же и с Тургеневым по отношению к «Собаке». Что бы ни говорил, г. Мережковский, но «Собака» есть пустяковый анекдот по содержанию, нимало не блистающий художественными достоинствами по форме. Об ней не будет упоминаться даже в очень подробных историях литературы, или разве в такой форме, что согрешил, дескать, между прочим, Тургенев и «Собакой». Что же касается больших его романов, то, несмотря на многие их недостатки, и предвидеть нельзя того времени, когда они перестанут читаться с живым интересом. А для г. Мережковского мистическое содержание «Собаки» все выкупает, а мотивы действительной жизни в романах Тургенева все портят. Это от того зависит, что он боится жизни. Он хочет не пить, есть и спать, а жить по-человечески; хочет и не смеет, потому что инстинктивно чует свое бессилие ориентироваться в сложных путях жизни. При этих условиях мистические сферы остаются единственным убежищем, куда г. Мережковский и удаляется вслед за французскими символистами. Нам туда не по дороге. Во Франции и вообще в Европе не одни символисты вновь обращаются к мистике: там есть еще «маги», «необуддисты», «теософы» и другие разные. Я думаю, что мы еще слишком молоды, чтобы до такой степени извериться в жизнь и до такой степени ее бояться.