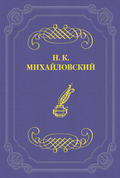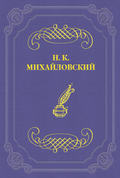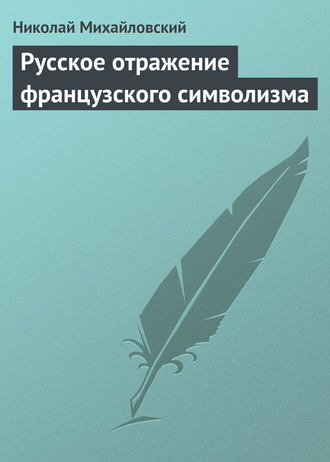
Николай Михайловский
Русское отражение французского символизма
Но дело, пожалуй, не в этом. Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой – это ведь вчерашний, даже сегодняшний день. И если г. Мережковский признает их своими духовными отцами, так против чего же он „возмущается“? Из подражания французским символистам? Но ведь те не признают ни натуралистов, ни „психологов“, ни „парнасцев“; они действительно разрывают со вчерашним днем; им, по их мнению, не за что ухватиться в ближайшем прошлом. Г-н Мережковский находится в совсем ином положении. Тем более что кроме произведений Тургенева, Гончарова, Достоевского и Л. Толстого, он знает еще одно течение в нашей литературе, против которого он восставать не хочет и не может.
Он говорит: „Прежде чем я перейду к поколению современных русских писателей-идеалистов, я должен сказать несколько слов о другом могущественном литературном течении, также вполне современном, имеющим огромную будущность, которому лишь по недоразумению большинство наших критиков придает такой резкий утилитарный характер. В сущности, это течение очень близко к идеализму. Я разумею народничество“. Из живых представителей этого направления г. Мережковский указывает на Гл. Успенского, В. Г. Короленко и меня… Это вынуждает меня на некоторые личные объяснения.
Лично обо мне г. Мережковский говорит, между прочим, следующее:
„Многие считают Михайловского исключительно позитивистом. Правда, он позитивист, как и большинство русских критиков, в отношении к искусству и красоте. Он не хочет примириться с высшим сознательным и божественным идеализмом, который, как многие люди его поколения, считает реакционным возрождением отжившего и суеверного мистицизма. Но в своих молодых статьях о Дарвине, о Спенсере – он идеалист“. И далее: „Не следует ли лучшим представителям прошлого, например Михайловскому, прислушаться к тому, что говорит современное поколение? Иногда не кажется ли отцам изменой то, что в детях только необходимый следующий момент развития? Кто знает, может быть, Михайловский нашел бы не одну бездарность и самонадеянность, а что-нибудь искреннее в том, что говорят молодые, идущие за ним. Я знаю, что Михайловский имеет полное право возразить: „Кто же эти молодые? Укажите на них. Что они говорят? Я их не слышу, я их не знаю…“ Да, голос их слаб. Но хотя бы это был шепот, он есть. Мы слабые, ничтожные люди, сегодня шепотом говорим друг другу на ухо то, что гений будущего заставит людей возвещать на кровлях и площадях народных. Разве в первый раз великое начинается с малого, отвергнутого и осмеянного?“
Г-н Мережковский сделал мне великую честь, поставив меня рядом с такими писателями, как Гл. Успенский и В. Г. Короленко. Я думаю, однако, что до известной степени самим характером моей работы эта честь мною действительно заслужена, и считаю себя вправе говорить не только от своего имени по крайней мере по одному пункту. Дело не в словах, не в названии – „что имя? звук пустой“, – но мы не можем принять кличку „народников“, и не по существу, а просто потому, что слово это слишком захватано, и в него нередко вкладывается смысл, с которым мы имеем мало общего. Г-н Мережковский называет нас еще „идеалистами“ (с некоторою неприятною для него примесью). Отчего бы и нет? Но слово „идеализм“ слишком неопределенно; в свою долгую историю – оно ведь очень старо – оно обозначало многое разное, и я отнюдь не уверен в том, что наш идеализм совпадает с тем, который вдохновляет г. Мережковского.
Теперь о себе. Г-н Мережковский замечает, что я „в своих молодых статьях – идеалист“. Не знаю, идеалист ли в смысле г. Мережковского, но наверное знаю, что я и теперь тот же, что был в молодые годы; знает это и г. Мережковский и прямо говорит об этом в другом месте. Что же касается адресованного ко мне приглашения прислушиваться к „шепоту“ „современных русских писателей-идеалистов“, то я затрудняюсь. Я всячески прислушивался и прислушиваюсь к тому, что говорят молодые, по закону естества идущие на смену нас стариков. Это ведь, опять же по закону естества, продолжение нашего собственного существования в обновленной форме. Но, к сожалению, я не могу симпатизировать произведениям большинства провозвестников нового, молодого. И прежде всего, я не слышу „шепота“. Напротив – гром и молния; гром не из тучи, конечно, а из среды самоуверенных до наглости, невежественных, неискренних и неблагодарных людей. Я в особенности настаиваю на искренности, потому что – г. Мережковский знает – „не всякий говорящий: „Господи!“ внидет в царствие небесное“.
Я не хочу входить в подробный разговор о разных „новых“ течениях и ограничусь г. Мережковским. Он – искренний человек. Он действительно проникнут жаждой всеохватывающей религиозной преданности идеалу, недостатком которой страждет, конечно, не одна Франция. Теоретически он, по крайней мере иногда, понимает также, что удовлетворение этой жажды не может быть достигнуто как-нибудь в ущерб науке, точному знанию. Он говорит: „Великая позитивная и научная работа двух последних веков, конечно, не прошла даром. Возрождение средневековых догматических форм уже немыслимо. Потому-то стародавний, вечный идеализм в искусстве мы имеем право назвать новым, что он является в сочетании еще небывалом, с последними выводами точных знаний, в свете безгранично свободной научной критики и научного натурализма как неистребимая никакими сомнениями потребность человеческого сердца“. Что облюбованные г. Мережковским струи современного искусства именно таковы, это просто неправда; но верно, что такова задача, и не только искусства. Действительно, неистребима потребность в действенном объединении сущего и долженствующего быть. Мало знать причины и следствия известного поведения – оно должно получить еще нравственную оценку, невозможную без определенного идеала; но мало и пассивной оценки, не обязывающей утвердиться в известном образе действия или изменить его. Мало знать, надо еще чувствовать, но мало и чувствовать, надо еще действовать. Та сила, которая направляет нашу волю к действию в соответствии с идеалом, построенным совокупным трудом разума и чувства, – эта сила и составляет сущность всякой религии. Не следует смущаться теми грубыми формами, под которыми скрывается иногда религия. Когда дикарь мажет сметаной или жиром губы своего идола в уверенности, что он за это пошлет ему счастливую охоту, эта уверенность составляет элемент науки дикаря, его понятий о причинной связи явлений, а не его религии. Лишь очень поверхностный или грубо понимающий человек может сказать: этот дикарь религиозен потому, что мажет идолу губы сметаной. Он делает это потому, что он невежествен. Но это не мешает ему быть глубоко религиозным, когда он так или иначе, движимый непреодолимою внутреннею силою, сознательно подвергается невзгодам, опасностям, лишениям ради чего-то вне и выше его стоящего, когда он, например, умирает, защищая своих богов и покровительствуемую ими родину или семью. Мы бесконечно далеко отошли от дикаря в понимании законов природы, но в историческом ходе событий односторонняя работа разума слишком часто подавляет область чувства и воли. Получается либо бездушная числительная машинка, вообще какой-нибудь механический аппарат познания с физиономией глубокомысленной или подкрашенной скептическою улыбкой, либо разнузданный зверь, либо, наконец, жалкое существо, разъединенное колебаниями и сомнениями.