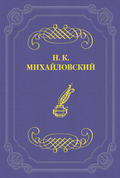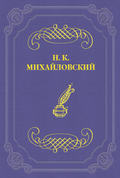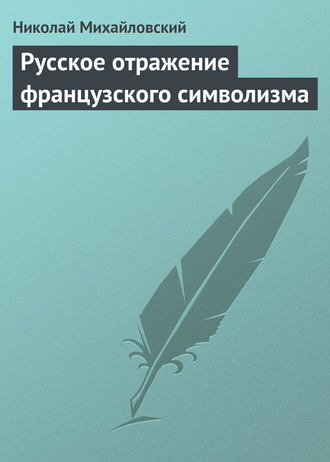
Николай Михайловский
Русское отражение французского символизма
Все это наконец надоело. Проснулась верховная потребность человеческого духа. Но проснулась, конечно, не в одних символистах, и я даже сомневаюсь, чтобы она в них в самом деле настояще проснулась. Во всяком случае, они противопоставили протоколу – символы, непреоборимости естественного хода вещей – мистицизм, грубым штрихам натуралистической поэзии – разные ухищрения тонкости. Кстати подоспели новейшие открытия в области психофизиологии: гипнотизм, внушение, чтения мыслей. Благодаря новизне этих явлений как объектов науки и благодаря их стародавности как явлений жизни, практики, – мистицизм, пристрастие к символам собственно за их загадочность и погоня за ухищренными тонкостями нашли себе в них кажущуюся опору.
Но довольно о французских символистах. Обратимся к их русскому отражению, к г. Мережковскому, разумея его, впрочем, исключительно как теоретика, как автора лежащей перед нами книги, потому что с его стихотворными произведениями я, признаюсь, недостаточно знаком.
Повторяю, я высоко ценю благородное настроение души г. Мережковского, не удовлетворяющегося сухостью, черствостью и односторонностью доктрин позитивизма и натурализма. Но протестовать против них можно с различных точек зрения, и любопытно знать, почему именно французский символизм пришелся ему по душе? Прежде всего, одно дело – Франция и другое дело – Россия. Во Франции, как справедливо замечает г. Мережковский, символизм имеет значение „возмущения“. Против чего возмущается г. Мережковский и указываемая им „единственная живая в России литературная сила“– отважное войско, состоящее из г. Чехова, Фофанова, Минского, Спасовича, Андреевского и Вл. Соловьева? Я, впрочем, не хочу ставить г. Мережковского в неловкое положение человека, взявшегося говорить от лица людей, не давших ему полномочий. Я остановлюсь только на нем самом.
Позитивизм Огюста Конта, о котором, впрочем, г. Мережковский прямо не упоминает, имел у нас некоторое значение, но его односторонность и узкость были указаны в русской литературе очень давно, когда г. Мережковский еще никакими отвлеченными вопросами не занимался, а играл в лошадки и вообще предавался невинным забавам, свойственным младенческому возрасту. Натуралистическим теориям в искусстве отводил было одно время на своих страницах место „Вестник Европы“{14}, но и этот почтенный журнал от них давно отступился, и, во всяком случае, натурализм, или зола-изм, отразился у нас разве только в некоторых произведениях гг. Боборыкина, Ясинского и еще кое-кого помельче. Главное русло русской поэзии и беллетристики никогда не совпадало с натурализмом. Русская критика также никогда не вдохновлялась им. Правда, за этой русской критикой г. Мережковский считает другие тяжкие грехи. Но, каковы бы они ни были, „возмущение“ г. Мережковского против русской критики может иметь лишь частный характер. Гг. Андреевский и Спасович являются в изложении нашего автора такими блестящими критиками, каким могут позавидовать гораздо более богатые, чем наша, европейские литературы, а ведь и там их не дюжинами считают. Г-н Мережковский возразит на это, что одна ложка дегтю портит бочку меду, а в данном случае даже наоборот выходит: бочка скверного, черного дегтя и в ней ложечка светлого, душистого, сладкого меда в лице г. Андреевского и Спасовича. И именно потому г. Мережковский направляет свои удары преимущественно на критику, что она была причиной упадка литературы вообще. Если, однако, это соображение и справедливо, то оно все-таки не решает вопроса, а только отодвигает решение. Критика не однородное какое-нибудь тело в составе литературы, она часть ее, и потому надо спросить: отчего произошел упадок критики? Иначе вместо ответа на вопрос, поставленный даже в заголовке книги, получится вариация на мольеровскую тему{15}: opium facit dormire quia est in eo virtus dormitiva[5]. Далее, г. Мережковский не первый ищет в критике причину упадка литературы. Замечательно, однако, что подобные жалобы на критику раздаются только у нас, хотя плохие критики есть везде и везде их больше, чем хороших. Только у нас господа беллетристы и поэты имеют двусмысленную смелость говорить: мы потому плохи, что критика плоха. Я не знаю, к какому времени относит г. Мережковский начало зловредного влияния у нас критики. По-видимому, к очень давнему, и настолько, во всяком случае, давнему, что это зловредное влияние должно бы было отразиться и на Тургеневе, и на Гончарове, Льве Толстом, Достоевском. Однако не помешала же им критика. Мало того, наша критика, по мнению г. Мережковского, все ухудшалась, а между тем, по его же мнению, именно позднейшие произведения Тургенева и Достоевского стоят особенно высоко…
Одна из глав книжки г. Мережковского называется: „Начала нового идеализма в произведениях Тургенева, Гончарова, Достоевского и Л. Толстого“. На основании всего предыдущего следует, кажется, заключить, что названные четыре своего рода великана представляют собою начало того, что имеют поведать миру гг. Фофанов, Минский, Мережковский, Чехов, Андреевский, Спасович, Соловьев. А может быть, уже даже поведали? Я думаю, что c'est trop fort[6]. „Начало“ – великаны, а конец или продолжение – „Гомункулы“ и „младенчески беспомощные ростки…“. Тут что-нибудь не так. И действительно не так. Просто путаница, от разбора которой я себя увольняю. Приведу только, что „Гомункулы“, „младенчески беспомощные ростки“ (они же „слабые и нежные дети вечерних сумерек“) „взяли художественный импрессионизм у Тургенева, язык философских символов у Гончарова, глубокое мистическое содержание у Толстого и Достоевского. Все эти элементы нового идеального искусства они сделали более сознательными, попытались ввести даже в критику, обнажили от посторонних реалистических наслоений“. Далее говорится, что, несмотря на все эти подвиги, гомункулы все-таки очень слабы. Но где, когда, кто из них сделал то, что рассказывает г. Мережковский? Остановлюсь на одном лишь примере. Из живых беллетристов нового поколения, нового идеального искусства и как их еще там г. Мережковский называет, он берет целиком только г. Чехова. Пусть же он укажет мистическое содержание в произведениях этого талантливого писателя, к великой его чести, решительно чуждого мистицизму.